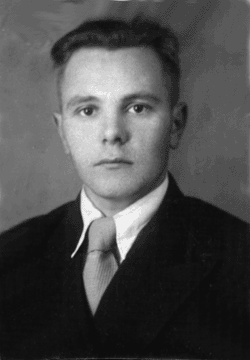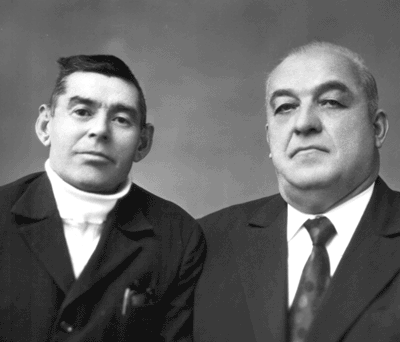СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ
Из дверей землянки видна изумрудная зелень свежей листвы, какой она бывает только весной, когда ещё не успела она затвердеть и покрыться тяжёлым налётом долгого стояния и в жару, и в дожди летних месяцев. Щебечут в ней многочисленные пичуги, радующиеся окончанию холодной и голодной зимы и приходу долгожданного лета.
Июнь 1944 года. Снова я прикован к кровати, вернее к нарам в нашей старой землянке, построенной ещё в конце 1942 года, и в которой мы благополучно провели свою вторую военную зиму. Вместе со мной в землянке ещё человек десять таких же неудачников, как и я, которых последняя блокада привязала к постели. Я говорю «последняя», но тогда мы ещё не знали что больше не будет этих страшных блокад, не будет тысяч погибших и раненых партизан и деревенских жителей, не будет этого бесконечного беганья по лесу под вой и цоканье немецких разрывных пуль. Не знали, что в начале июля придут наши войска и кончится наша тяжёлая эпопея нахождения в тылу у немцев в партизанах.
Недалеко от меня на нарах лежит «наш» немец, если память мне не изменяет, Пауль Герман — пожилой уже человек лет сорока, толстенький с широкой физиономией, которому пуля угодила в бок и тут же вышла, пройдя через несколько сантиметров гَермановского жира. Каждое утро, пока другие ещё спят, он просыпается раньше и начинает тихонько повторять по-русски фразы, которые старается запомнить.
— Кипятчёное молёко, кипятчёное молёко...
Вместо буквы «Ч» которой нет в немецком алфавите, у него получается что-то вроде «тш» или «тч», и он упорно продолжает повторять:
— Кипятчёное молёко...
Рядом лежит Павел Сушко, белорус из деревни Волки, что рядом с железной дорогой Молодечно—Красное. У него оторвана пятка, на одной ноге. Реваноль — единственное лекарство, которое у нас есть — помогает мало. Надеяться можно только на свой организм, да молодость. Вместе с нами мальчик ещё, наш разведчик Лёня (Пучковский Леонид Александрович) уже без одной ноги, постукивает своими костылями, к которым он уже начал привыкать.
Других моих соседей по этому «госпиталю» я уже не помню. Некоторые из них были из наших отрядов (отряд им.Димы в сорок четвёртом фактически превратился в бригаду, хотя и числился отрядом), разросшихся в последнее время и стоящих в деревнях, а не на базе. А я их мало знал, так как бَольшую часть времени находился далеко от базы, в основном, под Сморгонью.
Всех нас лечит Шура Долмат больше тёплым ласковым словом, чем лекарствами, которых у неё тоже не было. Ей помогают Бабынькина Нина (Нина Ивановна), Сальникова Галя, Стася Масевич.
Больше всего внимания и души уделяет нам вывезенный из Минска академик, крупный ученый, убелённый сединой, Николай Михайлович Никольский (если мне не изменяет память). Обычно по утрам после завтрака он приходил в нашу землянку и становился спиной к двери, опираясь руками на спинку стула, осматривал наши любопытные физиономии и начинал:
— А сегодня я расскажу вам о Китае (о Японии, о Корее и т.п.). Рассказывал о своём посещении этих стран, о народе их населяющих, о его привычках и склонностях. Рассказывал очень интересно, иногда с такими житейскими подробностями, каких ни в одной книге не найдёшь.
Мы часто предлагали ему:
— Зачем Вы стоите? Сядьте, всё равно опираетесь на стул.
— Нет, я всю жизнь читал лекции стоя. Сидеть не могу. Привычка, что делать.
Хотя от старости и перенесённых в оккупированном Минске невзгод, он еле ходил, но «лекции» продолжал нам читать каждый день и только стоя. Но и его лекций хватало только часа на два: больше он стоять не мог, и за ним приходила его жена, тоже уже весьма пожилого возраста, тем не менее всё время работавшая на кухне, помогая нашему повару Самохвалову.
Остальную часть дня — а дни в июне длинные длинные — приходилось лежать, предаваясь всевозможным мыслям и воспоминаниям. Правда, иногда забегали друзья, вернувшись с задания, или новички у нас девочки—радистки Ада, Наташа, прилетевшие, кажется, уже в этом году. От них в первый раз мы услышали новые песни — «На позицию девушка провожала бойца», «Тёмная ночь» и стихи Симонова, уже широко известные по ту сторону фронта. Запомнилась мне также напеваемая ими на мелодию модного, исполнявшегося до войны Марлен Дитрих шлягера «Лили Марлен», песенка, якобы услышанная ими от пленных немцев, со словами:
Но свидания эти были так редки, и основное время приходилось лежать, и какие только мысли и воспоминания не проносились в утомлённом мозгу.
В первый раз в своей жизни столкнулся я в этом сорок четвёртом году и с низкой человеческой подлостью и с величайшим благородством.
Сначала о подлости.
В конце 1943 года отправился я уже с другой группой в хорошо знакомые места под Сморгонь. Наша группа, в составе которой мы много раз туда ходили распалась. Аминева начальство назначило старшиной базы, другие ребята как-то разбрелись по разным заданиям, и мне пришлось отправиться с Золотухиным Иваном, двумя украинцами из числа нами приведённых из под Сморгони и двумя нашими активными помощниками из местных жителей, к тому времени уже бойцами нашего отряда: Страшинским Брониславом и Анатолием Демидовичем.
Дорогу Молодечно—Полоцк, которую мы всегда переходили в одном и том же месте, на этот раз перейти с первого раза не удалось. Идущий впереди Золотухин на вырубке вдоль дороги зацепил ногой какую-то проволочку и рядом грохнул взрыв. Ивана крепко оглушило и сильно ударило по ногам. Пришлось отойти и передневать на хуторах. На другую ночь мы, правда, перешли «железку» недалеко от этого места, но настроение у всех уже было испорчено, так как до этого переходы через дорогу нам всегда удавались.
В Трилесине началась наша обычная деятельность. Правда, Вилия уже частично замёрзла, и лодкой переправляться стало труднее. Приходилось переходить реку по неокрепшему ещё тонкому льду, слегка припорошенному снегом. Трудно было ночью находить тропинку, протоптанную днём жителями, много ещё было полыней, в которые ничего не стоило провалиться, но местные ребята — Савицкий, Демидович, Страшинский хорошо знали все тропинки, и всё проходило удачно.
Чтобы не бедствовать с продуктами и лишний раз за ними не ездить, я написал записку мельникам в Сморгони с просьбой прислать мешок муки, который нашей экономной хозяйке — Кастусихе хватило бы надолго. Но получил устный ответ мельников, что они хотели бы познакомиться со мной лично, хотя об «окулярнике» и были наслышаны, но боялись элементарной провокации со стороны немцев.
Пришлось мне с ребятами ночью перебираться через Вилию только для того, чтобы лично подтвердить, что записку писал я. Мельница стояла на окраине Сморгони рядом с дорогой, идущей за Вилию на Вилейку. Немцы на мельнице бывали практически каждый день, так как работала она, в основном, на них. Николай Савицкий и Толя Демидович остались на дороге, а я пошёл в просторный дом мельников, освещённый электричеством — на мельнице была своя динамо-машина, приводимая во вращение от мельничного колеса.
Встретили меня очень приветливо, пригласили за стол, где уже стояли наполненные келишки. Выпили за личное знакомство с «окулярником», и я получил заверение, что по первому требованию мешок лучшей муки будет всегда в моём распоряжении (естественно, из немецких запасов). Так была решена проблема хлеба и блинов.
Забегая вперёд, следует сказать, что когда в 1945 году я заехал в Сморгонь повидаться со Степаном Поповым — тогда завторготделом — и его женой Татьяной (из деревни Паныши в нашем партизанском районе), мы с ним заехали и к мельникам. Встреча была самая радостная, гостеприимству не было предела.
Сделали мы также и попытку запастись свининой и салом на всё время пребывания здесь в расчёте, что зимние холода не позволят испортиться нашим запасам. Забив здоровенного, пудов на восемь борова в одном из богатых хуторов за «железкой» невдалеке от Сморгони, я приказал хозяину хутора утром привезти тушу к Вилии и оставить её, замаскировав, в кустах у насыпи дороги, ведущей на «старый мост». Моста давно не осталось и в помине, даже когда он был, я не знал, но насыпь к нему сохранилась, хотя и заросла кустарником. Её хорошо было видно с нашего высокого, лесистого берега. Спутать это место с каким-нибудь другим невозможно, так как дорога на «старый мост» была одна.
С рассветом я один отправился на опушку леса над рекой против «старого моста», чтобы с этого берега увидеть, когда хозяин привезёт тушу и где её оставит. Вилия в этом месте не замёрзла, и мы хотели вечерними сумерками перевезти на лодке борова на нашу сторону и разделать.
Прошло более часа, а я всё стоял, и за рекой не появлялся никто. Прозевать лошадь с повозкой было мало вероятно. Вышло неяркое зимнее солнце и в его лучах стало теплее. Я привалился к стволу сосны, солнце прямо из-за реки освещало мою фигуру — опасности я ниоткуда не ожидал. Видимо, так привалившись к стволу, я задремал: сказалась очередная бессонная ночь.
Очнулся я от скрипа колёс. Передо мной по песчаной отмели на противоположном берегу реки рядом с водой ехала повозка, запряжённая парой лошадей, которыми управлял сидящий на ней немец. Два или три других солдата шли за ней, о чём-то разговаривая. Нас разделяла только река, шириною не более ста пятидесяти — двухсот метров. Наверное, моя кожанка, перепоясанная ремнями и оружие были так же хорошо видны немцам в лучах солнца, как и я видел их. Чего-чего, а такой повозки я не ожидал. Быстро скрывшись за сосной я подумал: не связано ли появление немцев именно тут с привозом забитого борова на это место. Но повозка и немцы проследовали дальше, не останавливаясь здесь. Ждать ещё чего-то было бесполезно, и я ушёл.
Вечером перебравшись на ту сторону, мы обшарили все кусты рядом с водой и, не найдя ничего, отправились через железную дорогу к хозяину, предчувствуя совсем неинтересный разговор с ним. Каково же было наше удивление, когда хозяин клялся и божился, что он сделал всё, как я ему приказал. Единственное, он сбросил тушу дальше от воды — ему помешали немцы.
Только на другую ночь мы нашли бедного хряка, но на еду он уже не годился. Привезли его в Трилесину и Кастусихе ничего не оставалось другого, как пустить эти пуды подпорченного сала в переделку на... мыло.
Наша союзница и защитница Вилия вела себя весьма коварно в эти зимние месяцы. То её отдельные участки покрывались льдом, а другие продолжали рябить на солнце, то лёд весь стаивал, то, наоборот, она вся покрывалась тонким ненадежным ледком, и мы оказывались отрезанными от другого берега, где нужно было «работать». Тогда же она чуть не стала для меня вечным покоем. Возвращаясь ночью один из Клиденят, где ребята остались выполнять задание, я залетел на тонкий лёд и провалился. Как я не утонул в ледяной воде со всем своим металлическим грузом (автомат, парабел, диски, гранаты), до сих пор не могу понять. Обломав несколько кусков тонкого льда, я, наконец, выкарабкался, видимо, на более толстый и по уши мокрый явился к Кастусихе. Она поахала, поохала, загнала меня почти голого на горячую печь, нашла для меня где-то «шклянку» самогона «на коренчиках», просушила мою одежду, и на другой день я был уже в полном здравии.
Наступил Новый 1944 год. В эту ночь решили никаких операций не предпринимать, а просто всем вместе и с хозяевами проводить Старый год и встретить Новый, пожелать друг другу удачи, а Красной Армии — освободить многострадальную белорусскую землю.
За столом засиделись часов до двух. Вдруг влетает кто-то из соседей и кричит:
— Там немцы стреляют!
Мы схватились за оружие и выскочили из хаты. Над Сморгонью, над Белой, над всей линией железной дороги взлетали ракеты и шла жаркая пальба из всех видов оружия. Сначала мы ничего не поняли и с недоумением смотрели друг на друга. Кто там немцев так побеспокоил? Неужели партизаны атакуют по всей длине дороги, или опять рельсовая война?
Наконец, до нас дошло, что это немцы встречают Новый год, ведь у них он на два часа позднее приходит. Перепились, наверное, и открыли пальбу. Только минут через двадцать успокоились пришельцы из другого мира. И мы тоже отправились на боковую, не забывая однако про дежурство.
После Нового года наступила оттепель, снег почти весь согнало, лёд на Вилии растаял, и установилась солнечная погода с температурой чуть ниже нуля. В то время к нам наведались с базы Спорик — он был при штабе, но на какой должности — не помню — и Василий Бондаренко — десантник выброски 1943 года. С какой целью они приезжали, я тогда так и не понял. То ли для контроля нашей деятельности, то ли ещё зачем.
Днём — они приехали ночью — я их привёл на высокий берег Вилии вблизи хаты «Майора». Когда они увидели дымки паровозов и кранов, растаскивающих остатки нашей ночной «работы», и немцев, расквартированных в Клиденятах, в каком-то километре от того места, где мы стояли, они явно струхнули и были сильно удивлены, что мы всё время находимся в такой близости от врага. Не особенно поверили и тому, что нас защищает только не такая уж широкая и глубокая река.
Так как немцы всё ещё занимались восстановлением путей после нашей очередной диверсии, и на дороге ещё нечего было делать — составы не ходили — решили вечером угостить приехавших «посланников» нашего начальства. Кастусиха приготовила отличную закуску, на деревне достали и выпивки (самогона, естественно). Постепенно за столом развязались языки, и Спорик пожаловался, что новый командир отряда, прилетевший из Москвы — Бедный (не знаю ни его настоящей фамилии ни имени) падок на выпивку, пристрастился к самогону, и никто не знает, что делать и как быть. Васька же Бондаренко был в ударе и потчевал всех присутствующих своим коронным номером, к которому на базе уже все привыкли: молитвенным тоном, подражая службе в церкви, он гнусавил:
И совсем уже в церковном стиле:
Затем следовал снова нехитрый куплет, часто сочинённый тут же экспромтом, а все слушающие от смеха, подхватывали:
Или «Удивительно» или «Подозрительно» или «Отвратительно» и т.п. Васька был великий мастер сочинять такие припевки на все случаи жизни, часто неприличного содержания.
Затем, как на базе, негромко напевали разные песни и нашу любимую, услышанную как-то с пластинки здесь на Западной Белоруссии, явно дореволюционную «Дощечку медную», как мы её называли:
Спорик часто выходил из хаты и прислушивался к лаю собак и другим ночным звукам. Его беспокоило и пугало такое близкое соседство немцев. Вскоре мы их проводили в обратный путь.
Вспоминается ещё один эпизод этого периода пребывания в Трилесине. Во время одной из продовольственных операций под Жодишками, не помню уже в какой из деревень, на чердаке одной из хат — на чердак заглядывали в поисках сушащихся обычно там табачных листьев (с куревом было хуже, чем с хлебом) — мы обнаружили отличный радиоприёмник. Таких я ещё не видал. Полированный красивый ящик с чуть наклонной передней стенкой, на которой за красивым обрамлением был расположен динамик, а рядом вертикальная прозрачная шкала с названиями всех европейских городов. В Советском Союзе приёмники с подобным оформлением появились только в пятидесятых годах. Насколько помню, приёмник назывался «Пионер» и выпускался в одном из городов Западной Белоруссии. Все детали приёмника и лампы были немецкие.
Мы привезли его в Трилесину и установили в хате Кастусихи. Я сделал антенну, заземление — пригодились мои познания в радиотехнике — долго ждали батарей питания. Наконец, и их достали и анодную, и накальную. Один наш знакомый в Сморгони съездил в Вильно и раздобыл их там. Параметры батарей я ему написал в записке. И вот в один прекрасный день я всё подсоединил к приёмнику и с замиранием сердца включил питание. Тишина. Начал медленно вращать верньер. Вдруг из динамика полились чистые и ясные звуки песни, которой мы просто заслушались:
Песня была как будто про нас сочинённая. Откуда тогда нам было знать, что это за песня, и кто её сочинил? Ведь с сорок первого года мы были оторваны от Родины и мало что знали о ней.
Окончилось пение. Неужели так хорошо слышно здесь Москву? С нетерпением ожидали мы, что скажет диктор. И вдруг из приёмника послышался хрипловатый с еврейским акцентом белорусский выговор:
— Увَага, увََага! Говَорит Остлянд, Барановичи-Менск...
Я даже сплюнул со злости. Откуда у немцев и их приспешников такие прекрасные русские песни? Хотел уже искать в эфире Москву, но диктор объявил, что будет выступать комментатор Блюменталь-Тамарин. Уже не помню о чём был его комментарий, но меня в тот момент насторожила фамилия. До войны была известна артистка Блюменталь-Тамарина. Какое имеет к ней отношение данный комментатор? Так это и осталось невыясненным.
По деревне быстро распространился слух, что у партизан работает радио, и в хату Кастусихи набилось полдеревни. Все хотели послушать Москву, но батареи были слабые, наверное, не первой свежести, и, боясь их «посадить» и остаться безо всего, слушали мы, в основном, только сводки с фронтов.
Чего нам не хватало для работы в этом районе, так только связи с базой. Несколько раз мы заикались перед командованием о придании нашей группе радиста с рацией, но всегда получали решительный отказ. В слишком опасном месте по мнению командования мы находились, и никто не решался послать сюда ещё и радиста.
В начале 1944 года всё больше партизан появлялось в этом районе. Всё больше людей стремилось в партизаны. Молодёжь в деревнях искала оружие, чтобы уйти в отряд, созданный Михайлюком и Черакаевым — отряд им.Фрунзе черкасовской партизанской бригады им.Будённого.
Но с оружием тоже случались неприятности, особенно при неумелом пользовании им. Молодой парень, сын соседей Кастусихи, достал где-то гранату и однажды вечером, подвыпив, сидел в хате Кастусихи и любезничал с молодой беженкой из Минска, нашедшей приют в Трилесине. Что там у них произошло, я не знаю, но граната, которая у него была с собой, взорвалась, и оба они были убиты. За мной — я был на другом конце деревни — прибежали соседи и сообщили печальную весть.
Только нам не хватало ещё и этой неприятности. Для нашей работы необходимо было, чтобы в Трилесине царило спокойствие, никаких эксцессов, а тут смерть сразу двоих. И хотя мы в этом были совершенно не замешаны — никто из нас ему гранаты не давал — подумать могли всё, что угодно. Тем более, что этот несчастный случай произошёл в хате Кастусихи, где мы квартировали большую часть времени, о чём знали все в деревне, приходя слушать радио.
Над нашей группой начали сгущаться хмурые тучи. Наше присутствие здесь и наша «работа» многим портила теперь настроение. Обыкновенная чёрная зависть играла во всём этом далеко не последнюю роль. Командиры групп и бойцы отряда им.Фрунзе и других отрядов, появляющиеся здесь, завидовали нашим успехам, созданным нами «удобствам» для «взрывной» работы, нашему снабжению взрывчаткой, нашим прочным связям в Сморгони, наличию у нас лодки для переправы — всему, что было создано нашей группой, её тяжёлым и опасным трудом в течение длительного времени с лета 1943 года, и чего у них не было.
Мы в их глазах были пришельцами издалека и сильными конкурентами по диверсионной работе, а это подчёркивало их слабость. Вместо того, чтобы радоваться успехам всех, кто проводит диверсии, выполняя общее дело борьбы с ненавистными захватчиками, личные амбиции взяли верх.
Хотя с Михайлюком и Черакаевым (командиром и комиссаром отряда им.Фрунзе) у меня были прекрасные отношения, однако с самого начала они были испорчены с начальником штаба этого отряда — Ильиным (Ильин Александр Яковлевич), грубым, нахальным невоздержанным человеком, хотя и старым партизаном. Кроме всего прочего, уже тогда он не пропускал ни одного случая, когда представлялась возможность «заложить за галстук». К сожалению, после войны эта пагубная привычка привела к тому, что он окончательно спился и умер.
Сначала он был уличен нами в мелком воровстве, а затем уже в крупном мошенничестве — попытке приписать наши взрывы на боевой счёт своего отряда. Всё это приводило к постоянной ругани с ним по различным поводам.
Но я никак не ожидал, что в своих действиях он дойдёт до явной подлости, чтобы только избавиться от нас.
Насколько мне известно, не без его участия было сфабриковано дело об изнасиловании одной жительницы Трилесины якобы Виктором Демидовичем из нашей группы. Случаи изнасилования карались у нас самым жестоким образом. Сам был свидетелем, как перед строем Тюриным Александром был расстрелян один из партизан его отряда, на которого поступила такая жалоба.
Местная партизанская власть, осуществляемая прибывшей в этот район новой для него партизанской бригадой (насколько помню, второй партизанской бригадой им.Суворова — заранее извиняюсь, если меня подвела память) бесцеремонно выставила нас из этой нашей «земли обетованной».
Было это уже где-то в феврале 1944 года.
На базе меня ждал весьма неприятный разговор с новым командиром отряда Бедным. Разговор постепенно перешёл в ругань, так как начальство было явно под хмельком. Присутствовавший при этом Аминев — он пошёл вместе со мной к Бедному, прослышав про наше выдворение из Трилесины — меня во всём поддержал. Бедному ничего не оставалось, как вызвать начальника особого отдела нашего отряда Свинторжецкого Якова Ивановича и приказать ему провести следствие, насколько это возможно в наших условиях, по делу «об изнасиловании».
Пришлось Свинторжецкому сняться с насиженного места и вместе со мною отправиться в Трилесину со всеми неудобствами, связанными с переходом железной дороги Молодечно—Полоцк (в который уже раз!), чтобы лично допросить мнимую «потерпевшую» и других жителей — «свидетелей» и убедиться, что вся эта история высосана из пальца. Затем мы с ним поехали к командиру бригады, принявшему решение о «депортации» нашей группы из этого района. В командирской землянке первое, что мне бросилось в глаза, был приёмник «Пионер» («боевой» трофей бригады после выдворения нашей группы), ещё так недавно стягивающий к себе столько народа в хату Кастусихи послушать Москву.
Здесь нам безапелляционно заявили, что в районе действий бригады после случившегося делать нам нечего, что бригада сама в состоянии справиться с диверсионной работой и разведывательными делами и что связь с Москвой у них имеется. Выслушивать наши доводы о несостоятельности обвинения в наш адрес никто уже не хотел. Нам явно дали понять, чтобы мы убирались в свой район и не лезли в «чужие дела».
Такими методами в духе разцветшего позднее административно—командного стиля руководства действовали вновь прибывшие по указанию свыше в этот район и вдобавок лишь в конце 1943 года руководители, освобождая себе поле действий от неугодных им «соперников», которые, увы, значительно раньше без их ведома обосновались здесь. Что было — то было! Когда уж тут было ещё и с немцами воевать?
По случайному совпадению приехали мы в эту бригаду 8-го Марта и решили на ночь остаться в землянках бригады, рассчитывая спокойно и безопасно выспаться.
Но не тут-то было.
Под вечер женщины, которых в бригаде было необычно много (что-то десятка три-четыре!) на свой праздник поднапились и начали вспоминать друг другу все обиды, которых, видимо, накопилось предостаточно. То и дело слышались то хохот, то крики, то визг, то плач, то перебранки:
— А, так это ты у меня такого парня увела?
— Стерва! Тебе бы только забраться в его постель! — и т.д. и т.п. в том же духе...
Перебранка перешла в рукопашную. Вцеплялись одна другой в волосы, давали пощёчины друг другу и пытавшимся их разнять мужчинам. Нет ничего омерзительнее пьяных баб, пытающихся свести счёты друг с другом!
Сначала мы посмеивались, наблюдая эту праздничную потасовку, затем поняли, что тут будет не до смеха и не до сна и, в конце концов, не выдержав, запрягли свой возок, уехали на ближайшие хутора и только там немного вздремнули.
На этом закончилось моё последнее посещение Трилесины. Перед приходом наших войск немцы спалили деревню и, побывав там в начале 1945 года, я застал только землянки, в которых и ютились все мои знакомые. Цветущая деревня разделила участь многих и многих вёсок многострадальной Белоруссии.
Понятно, что вся эта история с выдворением нашей группы из Трилесины подействовала на меня более, чем угнетающе. Пропала всякая охота проявлять какую-либо инициативу. Впервые на своей шкуре почувствовал я действие широко распространившегося впоследствии такого неестественного изречения: «Инициатива наказуема». Больше меня уже не тянул «ветер дальних странствий». Проще было находиться на базе, стоять на постах, дежурить, ездить за овсом и сеном для лошадей, за картошкой и другим для кухни и т.п.
О Трилесине, Ордее, Сморгони остались только воспоминания, да иногда в разговорах со своими товарищами по группе вспоминали мы всякие перипетии и плохие, и хорошие, и страшные, и весёлые (чаще, конечно, весёлые) нашей жизни там в 1943 году. Начальство наше на действия в том районе махнуло рукой. Бедного, в конце концов, отозвали назад в Москву. Все ждали нового командира, который должен был прилететь.
Наша база с осени 1943 года претерпела большие изменения. В землянках уже никто не жил. Несколько в другом месте неподалёку в лесу были поставлены два дома, перевезённые из деревни, в которых теперь мы и размещались. Ещё один дом — «дача», как среди нас он назывался, — перевезли примерно на то место, где осенью 1942 года находился наш лагерь из шалашей. Естественно, все эти строения были поставлены на живую нитку, т.е. без фундамента: все понимали, что служить они будут только до прихода наших войск, но переселяться в деревни, как делали многие другие отряды и бригады, мы не собирались. Всё-таки в лесу было безопаснее, хотя и без некоторых удобств. В наших землянках Урбанович устроил склад имущества, которым к тому времени сброс отряд. К складу была проторена в лесу даже колея для проезда телег. Нашими недалёкими соседями оказались евреи—беженцы, устроившие свой семейный лагерь в этом же заболоченном лесу где-то в километре от нас. В том же лесном массиве расположилась база бригады «Большевик», а по его окраинам появились другие отряды. Всё труднее было с продовольствием и фуражом по мере увеличения числа партизан.
На базе продолжалась обычная жизнь, от которой я уже порядком отвык, находясь в Трилесине. Теперь же снова, как в сорок втором и сорок третьем, до наших походов под Сморгонь, разделял я со всеми нашими «старичками» отряда и караульную службу, и другие часто не очень приятные, но и не очень опасные обязанности по поддержанию жизни нашего лесного гарнизона.
О судьбе многих из «старичков» — увы — я так ничего и не знаю. Живы ли они, или безжалостная машина уничтожения раздавила их ещё во время войны, или после неё, или умерли они своей смертью, прожив свою, укороченную военными невзгодами, тяжёлую жизнь. Ни мне, ни моим товарищам по отряду, с которыми удалось связаться после войны и поддерживать переписку, не удалось ничего узнать ни о горделивом Иване Никитенко, ни о покладистом Василии Манакове, ни о Грише Литвякове и его верной подруге Лене Войнич из деревни Подворяне, ни о Борисе Сидокове, ни о громогласном великовозрастном Грише Ярышеве, ни о малозаметном, но верном товарище Коле Батурине (Николай Порфирьевич), бывшем адьютанте Бати, ни о нашем усаче—поваре Самохвалове, ни о Грошеве.
Затерялись следы по Якимову Степану Васильевичу, последнему, с которым мне пришлось служить в одном полку после «партизанки», по моим коллегам по группе Попову Степану Андреевичу, Александру Сердюку, по моему «швагру» Николаеву Петру В., по Бобылёву Ивану, Толкачёву Виктору и многим другим, с которыми приходилось выполнять боевые задания во время партизанской эпопеи.
Погиб в Восточной Пруссии и похоронен в Инстербурге (Черняховск) Василь Байков (Исай Николаевич). Умерли уже после войны наш начальник штаба Чуприс, начальник особого отдела Свинторжецкий Яков Иванович, скончался у нас в Ленинграде после операции на сердце наш переводчик Зверьков Тимофей Васильевич, умерли в Минске Гладышев Николай, Марков Александр Сергеевич, Алексеев Станислав Вячеславович, там же скончалась Сальникова Галина, трагически погиб на охоте Батя — Герой Советского Союза Линьков Григорий Матвеевич.
Где-то в марте сорок четвертого прибыло к нам новое начальство. Прилетели они, как мы поняли с посадкой в Бегомле на партизанском аэродроме; на парашютах им спускаться не пришлось. Воздушный мост: аэродром в Бегомле — аэродром под Москвой работал исправно. Нам даже разрешили написать письма домой (после стольких лет неизвестности!), естественно, не разглашая, где мы находимся и чем заняты.
В приехавшей группе незнакомых нам людей, одетых в чёрные полупальто, русские шапки—ушанки, добротные сапоги, держались как-то особняком, насколько помню, человек шесть, чем-то отличающихся от остальных. Возглавлял всех полковник Громыко (Комаров Аркадий Григорьевич), других офицеров уже не помню. Мы все с интересом рассматривали новую офицерскую форму: гимнастёрки без отложного воротника из канадской шерсти, погоны, которых мы ещё не видели, хотя и слышали о их введении в Красной Армии.
Каково же было наше удивление, когда и остальные, приехавшие с полковником, скинули свои чёрные полупальто и оказались... в немецком обмундировании! Да ещё и говорили между собой тоже только по-немецки. Мы недоумённо смотрели на них, пока нам не разъяснили, что это немецкие товарищи, коммунисты, и прилетели сюда для выполнения спецзадания. Тут же нас предупредили что о нахождении у нас немцев не должен знать никто: ни в деревне ни в соседних отрядах. Для выполнения какого спецзадания прибыли эти «геноссен» тоже никто не распространялся.
Надо было иметь недюжинную смелость и величайшее благородство, а главное — пробудившуюся совесть, чтобы решиться отправиться к нам воевать со своими одноплеменниками, не зная даже языка бывших врагов, а теперь товарищей по оружию. Какое нужно было иметь идейное убеждение, чтобы решиться на такое! Правда, наверное, многим немцам уже тогда было ясно, что война проиграна, и неминуемая расплата приближается, но чтобы выступить с оружием в руках против таких же немцев — немногие на такое были способны.
Из этой команды мне больше других запомнились трое.
В первую очередь их старший в мундире с погонами «оберста» (полковника). Он удивил нас всех тем, то за какую-то пару недель так освоил русский язык, что мог уже без переводчика объясняться с любым из нас. Насколько я понял, он был и хорошо образован и получил отменное воспитание. Почему он мне запомнился больше других? Нас сблизила ... музыка. Увидев как-то в нашем хозяйстве мандолину, которой больше всех пользовался именно я, он попросил разрешения поиграть. Получалось у него неплохо: видно было, что опыт игры на ней у него солидный. Иногда мы сидели с ним и по очереди наигрывали кто что умел. Он знал некоторые мелодии, известные у нас, играл свои, чисто немецкие, все похожие чаще на марши; из наших же больше всего ему понравилась «цыганочка» (у нас в Приуралье она известна была как «сербиянка»), которую я, уже с трудом, исполнял с вариациями.
Другой — рыжий был парикмахером. Он всех их подстригал, и когда я как-то показал ему на свою шевелюру, он с готовностью предложил:
— Битте! Нэмэн зи пляц.
Сначала я его не понял: в школе нас учили, что слово «садитесь» звучит по-немецки «зэцен зи зих». Я неуверенно переспросил:
— Ман кан зицэн?
— Я, я. Зэцен зи зих, — и он отлично подстриг и меня.
Третьим был пожилой, упитанный мужичёк, и запомнил его больше других я только потому, что вместе с ним мне пришлось потом лежать в нашем лесном госпитале. Насколько помню, звали его Пауль Герман. Про остальных, увы, вспомнить уже ничего не могу.
Цель приезда немцев прояснилась, когда нам сбросили несколько грузовых парашютов, в мешках которых оказалось достаточно большое количество армейского обмундирования немецкого и, насколько помню, финского. Готовилась какая-то крупная операция; немаловажную роль в ней должны были играть прилетевшие немцы, а партизаны во вражеском обмундировании им сопутствовать.
Пришлось нам заняться обучением наших «геноссен», как нужно обуваться для длительных многокилометровых походов. Ведь они привыкли ездить на машинах, а пешком, если и ходили, то очень мало. У нас же в «партизанке», как известно, единственной машиной была телега. Когда мы увидели, как они заматывают портянки, перед тем как сунуть ногу в сапог, мы от души посмеялись, а они недоумённо на нас посматривали. Портянка у них была в виде квадратного куска мягкого материала. Нога ставилась на середину этого квадрата по диагонали: заворачивался на ногу один угол портянки, предположим слева, на него другой — справа, всё это сверху накрывалось загнутым передним углом, и нога совалась в сапог. Естественно, при таком закручивании портянок на первом же километре потёртости было не избежать. Пришлось им заменить портянки на наши, и мы их долго тренировали, как замотать их, чтобы получилось на ноге что-то вроде носка. Нам-то к этому было не привыкать: мы накручивали их каждый день.
Чтобы немцы не мозолили глаза приезжающим из других отрядов на нашу базу, их разместили на какое-то время на нашей «даче», где они и жили самостоятельно, сами себя охраняя и готовя себе пищу из привозимых им продуктов. Герман оказался неплохим поваром, остальные помогали ему. Однажды, возвращаясь с кем-то на базу из Бобров, мы по дороге завернули к ним. Они как раз собирались обедать, пригласили и нас. Помню, что Герман угощал нас гороховым супом, сваренным по-немецки густым почти, как каша. Разговорились через «переводчика», функции которого взял на себя их «оберст». Между прочим затронули и вопрос, на каких фронтах они были. Один из них оказался с ленинградского фронта и в разговоре упомянул Гатчину, где был в сорок первом. Я попросил перевести, что в сорок первом тоже был там. Немцы засмущались, замолчали, и мы постарались перевести разговор на другое. Затем поблагодарили за угощение и оставили их.
— Может он был и в Николаевке, — подумал я.
— К чему теперь это ворошить?
Предстояло вместе воевать.
Уже много лет спустя после войны, где-то в 1973 году рассказывал мне Романкевич Пётр Адамович, участник этого похода с немцами, что целью его был разгром какого-то крупного немецкого штаба, возможно даже штаба группы немецких армий «Центр» перед наступлением наших войск (операция «Багратион»). Группа наших ребят, порядка роты, соответствующим образом переодетых в форму противника, во главе которой и шли эти немцы, возглавляемая «оберстом» (был ли он действительно полковником немецкой армии, я далеко не уверен: коммунист и... полковник?), только ночами должна была по второстепенным дорогам, а где и просто без дорог, продвигаться к расположению этого штаба. При встречах ночью с настоящими немецкими подразделениями или патрулями высокое звание «оберста» обеспечивало его превосходство над другими немецкими командирами. У немцев было принято так: при встрече двух подразделений передвигающихся в условиях плохой видимости, сначала выясняются звания их командиров, и младший по званию направляется докладывать старшему по званию. Погоны полковника обеспечивали при встрече с ним вытягивание «во фрунт» и щелчок каблуками любого командира встречного подразделения, так как ни полковники, ни генералы сами, как известно, свои подразделения ночью не водят, поручая это своим подчинённым рангом пониже.
И это было принято в расчёт нашим командованием при организации этой беспримерной операции. Думаю, что полковник Громыко, конечно, был и лично заинтересован в успехе операции, так как разгром такого важного объекта весил, по крайней мере, звания Героя. А так как с боевой работой нашего отряда уже было связано присвоение этого высокого звания трем возглавлявшим его командирам: Линькову Григорию Матвеевичу, Щербине Василию Васильевичу и Фёдорову Николаю Петровичу, то становилось понятным, почему именно опять-таки наш отряд был выбран в Москве для выполнения замыслов высшего командования.
Увы, поход этот не решил поставленной перед ним задачи. До намеченной цели нашей колонне во вражеском обмундировании добраться без «шума» не удалось. Не знаю по какой причине, но по пути продвижения произошло несколько стычек с противником, закончившихся для него весьма плачевно. Слух о том, что какая-то «немецкая часть» немцев же уничтожает, распространялся и достиг штаба немецкого командования — цели похода — быстрее, чем наша колонна.
Возможно также, что и на нашей базе мог находиться тайный осведомитель и предупредить командование оккупантов о появлении в отряде немцев из Москвы. А может, сыграло свою роль ЧП (чрезвычайное происшествие), когда наши «геноссен», гуляя по лесу, недалеко от своей «дачи» обнаружили еврейский лагерь и наделали там переполох своим появлением, чтобы посмотреть, на быт беженцев и поговорить почти на своём родном языке (еврейский и немецкий языки очень похожи), за что получили нагоняй от Громыко.
Факт тот, что внезапность нападения — главный козырь успеха операции по разгрому вражеского штаба — исчезла. У немцев ещё свежи были в памяти воспоминания об родионовцах, так траурно закончившиеся для оккупантов: охрана штаба была предупреждена о появлении «странной» немецкой части и усилена. Прорваться же с боем к штабу через кольцо охраны, значительно превышающей контингент нашей колонны — это значило идти на верную гибель.
Все эти соображения я привожу по рассказу Романкевича П.А., участника этого похода, увы, уже покойного. Очень печально, что эта операция, закончившаяся хотя и безрезультатно, но неплохо организованная, не нашла своего отражения ни в художественной литературе, ни в публицистике ни с нашей, ни с немецкой стороны. Живы ли кто из её участников?
Об одном забавном случае (увы — он мог кончиться и трагически) долго вспоминали после этого похода его участники и наши, и немцы. «Героем» его был самый пожилой из них, упоминавшийся уже Герман.
Как мы ни тренировали немцев заматывать портянки, всё-таки он умудрился сбить ногу и, сильно хромая, плёлся в конце колонны. К счастью, произошло это когда наши уже возвращались на базу. Задерживаться было нельзя, так как приближался рассвет; требовалось в темноте достичь партизанского района для днёвки. «Оберст» поговорил с Германом, затем на внутренней стороне голенища его сапога начертал ему немецкими буквами название деревни, где намечалась днёвка колонны, чтобы он случайно не забыл и не исказил трудное для немецкого произношения название белорусской деревни. Колонна ушла вперёд быстрым шагом, а Герман остался плестись один.
Было уже почти светло, когда он постучал в хату ближайшей встретившейся деревни. Хозяин хаты, трясясь от страха, что нагрянули немцы, не мог понять, чего хочет от него этот фриц. В конце концов, до него дошло, что немец требует отвезти его в деревню, где, о чём было всем известно, стоят партизаны... Его охватил панический страх: он окажется между двух огней. Немцы столкнутся с партизанами, будет стрельба, и едва ли он из этой каши выйдет живым. Его домашние тоже подняли вой и плач.
Велико же было удивление хозяина, когда он обнаружил по выезде из деревни, что немец один, и больше в деревне нет ни одного оккупанта! Перед этим он успел всё-таки послать из деревни связного в соседнюю, чтобы предупредить о появлении немцев. В деревнях партизанской зоны и на подступах к ней эта служба предупреждения об опасности — появлении немцев или полиции работала безупречно.
Так они и ехали, возчик и Герман, а впереди их летела молва, что движутся на повозках немцы, и в каждой деревне эта молва всё увеличивала количество врагов. Докатилась она и до деревни, где дневала наша колонна. Они, конечно, ожидали Германа, но никак не ожидали целого обоза немцев, о чём сообщил прискакавший из соседней деревни очередной осведомитель.
Заспанных подняли по тревоге, организовали круговую оборону, устроили засады...
И тут вместо обоза врагов увидели они единственную повозку и широкую, радостно улыбающуюся физиономию Германа. Хозяин—возчик, дрожавший всю дорогу от страха, ничего не мог понять, когда «немцы» (уже не один немец) по-русски поблагодарили его, разрешили возвращаться домой и пригрозили только, чтобы держал язык за зубами и не болтал о случившемся.
С приездом этих «геноссен» пришлось из нашего лексикона исключить тревожное слово «немцы», так широко употреблявшееся в значении «враг», «опасность» и т.п. «Оберст», когда достаточно освоил русский язык, с горечью как-то заметил очередному собеседнику, простодушно употребившему в разговоре это слово «немцы», что нужно говорить не «немцы» а «фашисты».
— Мы тоже немцы, но мы — не фашисты!
После этого неудачного похода на вражеский штаб, немцев распределили по нашим отрядам, и они ходили на задания, где требовалась их форма и чистый немецкий выговор. На базе, насколько помню, оставлены были только двое.
Отряд Димы по существу давно превратился в бригаду, имеющую центральный отряд — базу — и периферийные отряды, расположенные в деревнях, окружающих нашу Руднянскую «пущу». Бригадой же мы числились и в Разведуправлении Генштаба и, хотя в наших партизанских удостоверениях (по-белорусски «пасведчанне партызана») упоминается отряд им.Димы, в более ранних документах — справках, выданных нам в 1944 году в Москве — штамп на них выглядел следующим образом:
Генштаб
Бригада Особого
Назначения
им.Димы
...............
20-го июля 1944 г.
Увы, справка эта была у меня похищена вместе с другими документами и деньгами каким-то карманным воришкой в 1946 году в Ленинграде, и до получения Удостоверения партизана в 1970 году у меня вообще не было никаких документов о моём партизанском прошлом.
Некоторое время я, Кузяев, и, кажется, Сердюк были выделены Аминевым для круглосуточной охраны «дачи», куда перебрался Громыко со своим штабом и наши женщины (кроме радисток): Шура Долмат, Нина Бабынькина, Сальникова Галя и Масевич Стася.
Шура и Нина были уже в отряде, когда я в составе группы Хатагова прибыл к Диме; Сальникова и Масевич появились значительно позднее, кажется, в связи с убийством Кубе. Ночью мы по очереди стояли на посту, охраняя «дачу», а на день оставался кто-либо один из нашей тройки, а двое других могли на некоторое время отлучиться в Бобры или другие ближайшие деревни по своим знакомым, тем более что от «дачи» до Бобров было рукой подать. Обстановка в нашем районе была спокойной, мы ещё не знали, что над нами, да и не только над нашим отрядом, уже сгущаются тучи.
А пока наши «дамы», у которых, как я понял, не всегда было много работы (Шура врачевала, Нина — стучала на машинке, Галя и Стася вместе с остальными заботились о пище), частенько заводили патефон и гоняли старинные мелодии, которых сейчас, к сожалению, уже не услышишь.
Эти задушевные слова и бесхитростная мелодия мне особенно почему-то нравились. Может, из-за того, что сложена она была про возвращающегося из плена, о чём упоминалось в песне. К сожалению, после войны я слышал её не более чем пару раз.
Другая так напоминала мне родной город Воткинск с его величественным собором, шумевшей около него базарной площадью, аллеей тополей на плотине, где по вечерам гуляла публика — я тогда был ещё совсем маленьким. Позднее, в тридцатые годы, всё это было безжалостно уничтожено: у собора взорвали купола и перестроили его в аляповатый театр, базар закрыли — после НЭПа он был уже не нужен, на плотине воцарилась военизированная охрана, и никто уже не гулял.
Часто звучал также унылый, полный безысходности старинный романс «Не уходи», слова которого по памяти я записал в свой блокнот уже после партизанской эпопеи находясь в санчасти нашего полка в Люблине в Польше.
Наша на удивление невозмутимо—спокойная жизнь кончилась в третьей декаде мая. Отголоски тяжёлых боёв на западе нашей зоны стали доноситься до нас где-то 22—23-го мая. Связные, прибывшие оттуда, сообщили, что немцы идут стеной, поддерживаемые артиллерией, танками, самолётами. И бригады, находящиеся там не в состоянии их остановить.
Немецкое командование, ожидая, что создавшийся в линии фронта белорусский выступ, наша армия в самое ближайшее время будет стараться ликвидировать, решило освободить от партизан свои тылы. А так как Борисово—Бегомльская партизанская зона, в южной части которой мы и находились, занимала огромную площадь в тылу врага, оно сняло с фронта несколько дивизий группы армий «Центр» и решило охватить эту зону, загнать партизан в какое-либо одно место и там уничтожить. Местом таким оказался болотистый район озера Палик на Березине.
План немецкого командования по окружению зоны предусматривал начать наступление на западе с линии Радошковичи, Красное, Илия, Долгиново, Докшицы. Уже в последних числах мая немцы, продвигаясь с боями добрались до Руднянской «пущи». Громыко дал относительную свободу всем нашим отрядам не ввязываться в бои, постараться пройти через немецкие линии незамеченными или, маневрируя среди болот, пропустить немецкие цепи и оказаться у них в тылу. Приказание это удалось осуществить далеко не всем. Некоторые группы из наших отрядов были загнаны и на Палик, а вернулись оттуда очень немногие, рассказывая, как немцы уничтожали согнанных туда партизан. За всю партизанскую эпопею в нашей зоне погибло партизан меньше, чем в эту последнюю самую обширную блокаду, причём буквально перед приходом советских войск, перед освобождением. Не хочу пересказывать то, что слышал от уцелевших — сам я на Палике не был — но чего-то более ужасного уже не придумаешь.
Это была в полном смысле резня загнанных в болота, оставшихся без боеприпасов тысяч партизан и мирных жителей, отходивших с ними. Увы, до сих пор никто не решился изложить на бумаге (по крайней мере мне не встречалось прочесть) все ужасные перипетии этой кровавой бойни начала лета 1944 года.
Громыко со своим штабом, радистами, женщинами и немногочисленной охраной, в число которых входил и я, решил отсидеться в своём заболоченном лесу, полагая, что немцы в болота не полезут. Перед этим мне пришлось заминировать подходы к нашим домом в лесу и одну из мин (семидесятипятиграммовая шашка тола с нажимным взрывателем) я поставил на входе в дом под половицу. Лучше бы я её не ставил! Нашу «дачу» мы минировать не стали, а расставили кругом колышки с дощечками на которых было написано «мины», и для вящей убедительности натянули кое-где хорошо видимые белые нитки из парашютных строп. С этих работ началось утро, насколько помню 30-го мая.
Целый день над нашим лесом ревели самолёты, кидая бомбы в замеченные скопления людей, в основном, деревенских жителей скрывающихся в нём. Лес был засыпан минами из многочисленных миномётов врага, обстрелян из артиллерийских орудий. Затем началась «прочёска» немецкими цепями. Грохот разрывающихся мин, бомб и снарядов, рёв самолётов, трескотня автоматов и винтовок окружали нас со всех сторон.
Мы скрывались в дебрях заболоченного леса на небольших более или менее сухих островках, покрытых густым ельником внизу и старыми разлапистыми деревьями сверху, иногда перебегая по болоту с одного островка на другой, когда трескотня выстрелов угрожающе приближалась к очередному нашему укрытию. Расчёт Громыко оказался правильным: немецкие цепи в болото не лезли. Правда, патронов тоже не жалели, поливая огнем все мокрые места, где им не хотелось испачкаться в болотной жиже. Разрывные пули цокали буквально над головами, нас засыпало срезанными ветками, кусочками коры, иголками... Не повезло одному из немцев: упоминавшийся уже Герман был легко ранен в бок.
Целый день продолжался этот ад, эти рывки с места на место под вой и цоканье пуль, завывание мин и грохот разрывов.
Наконец, этот длинный, длинный страшный день угас, стрельба почти прекратилась, немцы видимо, сосредоточились в деревнях; мы, измученные целым днём гонки с одного места на другое, с расходившимися нервами, с осторожностью приблизились к нашим домам. Я провёл всех по безопасному от мин проходу и не помню зачем пошёл в дом. Много раз потом я задавал себе вопрос: зачем я туда пошёл? Видимо, после этого сумасшедшего дня не все винтики в голове были в порядке.
Как я оказался на половице, под которую сам ещё утром поставил толовую шашку? А может, оступился? Вспомнить уже не могу...
Вспышка яркого света перед глазами, как будто выстрел в упор; страшный грохот... И я проваливаюсь в яму...
Надо мной покачивается небо странного жёлто-зелёного цвета, просвечивающее сквозь листву и лапы деревьев тоже почему-то жёлтых. Я лежу скрючившись на плащ-палатке, которую за углы несут ребята все тоже какого-то странного жёлтого оттенка. В ушах громко звенит и, кроме этого непрерывного звона, я ничего не слышу. Страшная боль разлилась по всему телу, но больше всего она терзает ноги и голову, которую я даже не могу повернуть и практически вижу только небо и двух, идущих сзади крепко сжимающих углы плащ-палатки. Вместе с ней меня кладут в яму, образовавшуюся на месте поднявшихся вместе с землёй корней громадной упавшей ели (выворотень), замаскировывают меня ветками и сучками, что-то мне долго говорят. Из-за звона в ушах я всё равно ничего не понимаю, они уходят... Наступает ночь.
Сколько времени провёл я под этим выворотнем на мокрой земле — я не помню: может, сутки, может, двое... Кроме звона в ушах, я ничего не слышал. Руки у меня были целы, хотя и болели от ударов, но ногами я не мог даже пошевелить. Резкая боль сопровождала каждую попытку повернуться или согнуть их. Так я и лежал в полуобморочном состоянии и не знал, что с моими ногами. В ночном полумраке, как тени, появлялись Нина и Шура, а может, и ещё кто, поили, кормили, что-то говорили, но по-прежнему через завесу звона в ушах звуки их голосов не проникали.
Чего только не мелькало в моём воспалённом мозгу, пока я лежал под этим «корчём» (белорусское выражение); сквозь звон, казалось, слышались выстрелы, разрывы, и я судорожно замирал, ожидая самого страшного. Раздавались ли они на самом деле или только в моём больном воображении — сказать трудно.
Наконец, в сумерках, наверное, на второй день, меня принесли на носилках в нашу землянку, к счастью, сохранившуюся, где мы зимовали в 1942—43 годах. В землянке был целый госпиталь после этой страшной блокады. Сняли мои истерзанные взрывом, с превращёнными в клочья голенищами, сапоги. Ноги мои мало чем отличались от голенищ; ступни были целы, но выше... Опухшие, с чёрными запёкшимися сплошными пятнами крови, из которых торчали клочки материи от штанов, какая-то грязь, струпья. Всё это покрывало левую ногу почти до ягодицы, на правой было поменьше, но тоже страшно смотреть.
На другой день утром меня вынесли на полянку за кустами, посадили на постилку, придерживая сзади, дали мне выпить стакан «першака» (особо крепкий самогон начала выгонки) в качестве наркоза, срезали с меня лоскутки оставшиеся от штанов, и Шура Долмат начала вытаскивать застрявшие в моих ранах остатки ткани, кучу загнанных в тело деревянных заноз (скорее щепок) от раздробленных половиц, что-то ещё, вымывала тампонами, смоченными самогоном, грязь из изрешечённых ног. Я сидел и только мычал от боли.
Большую неприятность доставил мне рожок (магазин от автомата), которые мы засовывали обычно за голенище. Взрывом он был вдавлен глубоко в мякоть ноги, оставив после себя страшный след.
Ноги спасли мне... сапоги, на которые я перед этим попросил в деревне сапожника набить подмётки и поправить каблуки. Он, не имея другого материала — где было взять — набил толстенные подмётки, вырезанные из автомобильной шины, и такие же каблуки. Они-то, наверное, и приняли на себя страшный удар (шашка тола, даже семидесятипятиграммовая, разрывает рельс!) и спасли мне ступни, ну а выше голенища и штаны ни от чего уже защитить не могли.
Когда Шура закончила эту длившуюся почти полдня операцию и наложила повязки, густо смоченные реванолем (другого из лекарств у нас ничего не было — реваноль доставали у немцев в Минске), меня снова снесли в землянку и положили справа от двери, в которую я и любовался природой. Постепенно угас звон в ушах, зрение опять воспринимало нормальную гамму цветов.
Приходили ребята, рассказывали, что нашу «дачу» немцы, испугавшись предостерегающих надписей, обстреляли, видимо, зажигательными пулями, и она сгорела. К нашим домам в лесу боялись подходить после всего, что случилось со мной. На установленных мною минах подорвалась... корова и оторвало ногу одному из местных жителей. Никто не решался идти туда и разминировать оставшиеся, хотя я и пытался обрисовать, где они установлены, а сам я не мог этого сделать, будучи прикован к постели, да и желания большего не испытывал — не хотелось ещё раз ставить на карту свою жизнь.
Почти весь июнь провалялся я в нашей берлоге. Постепенно все рваные места заросли, оставив правда синеватые шрамы, но в трёх местах раны упорно не закрывались. Видимо, нужны были какие-нибудь лечебные процедуры, которых в наших условиях невозможно было осуществить.
В это же время, ещё лёжа на нарах, получил я, наконец, весточку из дома. Сразу три письма! Два — от матери: одно — мне, другое — в Москву Иванову. Наш обратный адрес в то время был: Москва, п/я... Иванову. Никакого «Иванова», естественно не было, это был условный код нашего отряда для почты. Мать спрашивала у «товарища Иванова», что он может сообщить обо мне, так как из моего письма было многое непонятно. И это её письмо «Иванову», не распечатывая, переслали уже мне. Подробностей, содержащихся в письме матери ко мне я уже не в состоянии вспомнить. Сколько пролила она слёз пока его написала!
Моё письмо, полученное после стольких лет молчания, вызвало, как я понял, у моих близких что-то похожее на шок. Они уже втихомолку выплакали все слезы, уже как-то свыклись с мыслью, что меня нет. И вдруг приходит загадочное странное письмо с не менее странным обратным адресом, написанное таким знакомым почерком, что их «без вести пропавший» сын жив; но где находится, и что с ним было этих долгих почти три года, в нём практически не сообщается. И кто такой «Иванов», которому надо писать в Москву, чтобы письмо дошло до меня? Трудно передать, какое это было счастье получить письмо из дому, узнать, что все живы и более или менее здоровы, хотя досталось им за эти годы, как и всем, и голода и холода и других невзгод.
Третье письмо было от девушки, с которой мы вместе учились в школе.