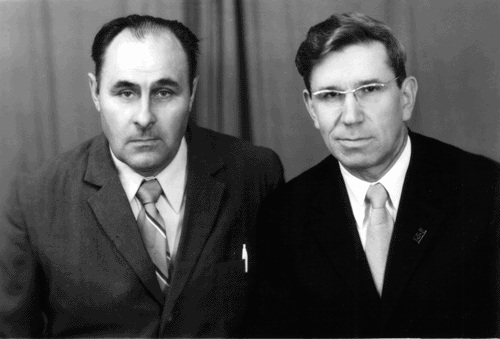БУДНИ
Медленно приближается рассвет. Всё сильнее мёрзнут ноги. Уже вытоптана целая дорожка от начала поляны, где дежурит наряд «ханбаты» до ручья, пересекающего лесную дорогу. За четыре часа, наверное, не менее сотни раз промеряешь эту дорожку, а смены всё нет и нет. Часов у меня тоже нет, да и не было до сих пор: не так богаты были мои родители, чтобы я носил часы. Единственная ценная по тем временам вещь — «вечная» ручка, которую подарил мне отец перед отъездом в Ленинград, отобрана была немцами при обыске в Двинске. Пользуясь правом победителя (какое уж тут благородство) они забирали у наших солдат и офицеров, обычно во время обысков, всё, что представляло ценность, всё, что можно было променять либо продать: часы, кольца, хромовые сапоги, вплоть до солдатских вафельных полотенец. Всё это пускалось ими в оборот, чтобы выменять — не всегда и не везде можно было просто забрать — шпиг, яйца, масло и другие деликатесы, до которых они были заядлые любители. В период оккупации на Западной Белоруссии появился даже стишок:
Звучал он совсем не весело, как это может показаться с первого раза, так как многие мирные деревенские жители — старики, женщины, дети, распрощались с жизнью, пытаясь защитить своих кур и другую живность от немецких любителей вкусно покушать.
Ноги мёрзнут нестерпимо, ходьба уже не помогает, начинается танец с одной ноги на другую, внимание притупляется, скрипящий под ногами снег не даёт прислушаться к звукам ночного леса. Проклиная всё на свете, подрыгиваешь на одеревеневших ногах. Всё чаще посматриваешь на тропинку, ведущую к землянке.
Наконец, замечаешь движущуюся тень. Идёт смена. Тихо спрашиваешь: «Кто идёт?» Никаких криков: «Стой? Кто идёт?», как требуется по уставу Караульной службы. У нас свой устав, выработанный долгими месяцами жизни и укрывания в лесах, и негласное правило: никаких громких возгласов.
Было ещё более жёсткое правило: «Уснул на посту — не проснёшься». Прикончат свои, если не успели прикончить немцы. Оно сохранилось ещё со времён Бати — Линькова Григория Матвеевича, первого командира нашего отряда, т.е. с осени 1941 года. У Бати было железное правило:
Никто не должен отставать на марше! Живой!
Уснувшего на посту не будить! Стрелять!
Тогда в конце сорок первого им было нестерпимо тяжело, и воспоминания о большинстве из них сохранялись только в памяти их ближайших друзей. Погибали от пуль немцев, в застенках гестапо, после изуверских пыток, выданные предателями из местного населения и подосланными провокаторами. Часто погибали и по своей глупости, недисциплинированности, неопытности командиров, которых никто не учил, да и не мог учить методам боевых действий в условиях партизанской войны (собирались воевать только на чужой территории!). Богатое жниво собрала смерть среди партизан. Разыскивала их бежавших из плена и выходящих из окружений, в которых в сорок первом оказались не десятки и не сотни тысяч, а миллионы советских солдат. Сколько из них погибли в лагерях военнопленных от голода, холода, тифа, побоев и убийств, зверского обращения «цивилизованных» завоевателей «жизненного пространства» — разве кто-нибудь считал?
Наконец, закоченевший до «мозга костей» вваливаешься в землянку. В нос ударяет тяжеленный запах подсыхающих портянок, смешанный с другими запахами человеческих тел, часто много дней немытых, а тело охватывает приятная теплота, исходящая от печки, около которой сонный дежурный поднимает голову и спрашивает:
— Ну как там? Тихо?
— Волки воют, филины ухают. Что там ещё может быть? — скороговоркой отвечаешь ему, стягиваешь промёрзшие обутки, определяешь портянки поближе к печке и, расталкивая мирно храпящих соседей, ложишься на своё место, засунув туда же винтовку, даже не вытащив патроны из магазинной коробки.
Натягиваешь на себя коротенький полушубок — единственное твоё зимнее обмундирование, слегка ослабляешь поясной ремень, сдвигаешь подсумок с гранатами на ремне так, чтобы было удобнее лежать, и думаешь, что мгновенно провалишься в забытье. Но... сон не приходит. Сначала начинают ныть замёрзшие ноги, обмороженные в плену в Полоцке, затем в голову начинают лезть всякие воспоминания, большей частью невесёлые из времён нахождения в неволе. Кругом слышится сопение, храп, иногда прерываемый бредом во сне. Все мои соседи по нарам тоже «хлебнули счастья» то ли в немецком плену, то ли в суровую зиму 1941—42 годов, когда немцы и полицаи гоняли в лесах немногочисленные и слабо организованные партизанские группы, то ли вынуждены были уйти в леса, оставив на произвол врага своих близких в деревнях и местечках.
Пробуждаешься оттого, что начинают вставать соседи по нарам. Громкоголосый казарменный «Подъём!» как правило, не слышишь, но когда начинают шевелиться соседи, услышавшие такую команду, которую дежурный подаёт только для того, чтобы продрать горло после «бдения» у печки, и только потому, что на кухне готов уже нехитрый завтрак, приходится вставать. Никаких казарменных процедур, как то подъём, зарядка, умывание и т.д. у нас не было. Спать и так приходилось мало, выматывали караул, дежурства, «ханбаты», ночные операции, редко боевые, чаще продовольственные и фуражные и т.п.
С продовольствием было сложно. Брать его в соседних деревнях — рубить сук, на котором сидишь. Поэтому приходилось производить эти операции, как можно дальше от «базы» — местонахождения отряда и как можно ближе к немецким гарнизонам, т.е. под Молодечно, Ильей, Красным, Радошковичами и др. Неприятное это было занятие брать у крестьян муку, крупу, картошку, ещё хуже — корову, забивать свинью, хотя последнюю скотину, как правило, никогда не брали. Всё это расходовалось очень бережно, так как доставалось с трудом и большой опасностью. Сколько ребят погибло на этих «продуктовых» операциях! Нарывались на засады, отстреливались от погони, так как взять и доставить на базу корову откуда-нибудь из околицы Красного или другого местечка, где стоит немецкий гарнизон или постерунок полиции, считалось шиком, да и морально действовало на население: «Если уже за коровой добрались до Красного, то партизаны всё могут, и ни немцы, ни полиция не могут, бессильны им воспрепятствовать».
Но уж когда немцы и полицаи устраивали прочёсывание партизанских районов, собрав побольше сил или используя фронтовые части, расквартированные на отдых в данном районе, то у населения могли вычистить иногда всё, что оно не успело унести и увести в лес. Поэтому в деревнях партизанских районов и скота, и лошадей было мало, жили бедно, часто партизаны приводили из разгромленных имений, из подместечковых деревень скот и лошадей и раздавали их в своих деревнях с условием, что могут в любое время забрать. Занимались этим коменданты деревень, назначенные или из местных жителей или из партизан. Не обходилось и без злоупотребления и жалоб. С расширением партизанского движения партизанские зоны становились всё обширнее, появились уже целые районы, где немецкие власти не могли ничего предпринять, как, например, Бегомльский район, но всё это было позднее, а в 1942 году всё это было в зачаточном состоянии.
После неприхотливого завтрака — обычно каши с салом или с мясом и «чая» (без сахара и чая — где их было взять?) командиры распределяли людей на задания и работы самого разного рода. В землянке оставались те, кто был в карауле, дежурил или возвратился с ночной операции. Заступал на дежурство новый наряд караула и дежурных. Шли заготовлять дрова для кухни, землянок, на «ханбаты», возились на кухне повар с помощником, уезжали люди к своим связным в ближайшие деревни, приезжали люди из других отрядов к Диме.
На обед собирались не все. Обед тоже не отличался обилием: суп с картошкой и крупой, заправленный мясом, на второе — опять каша и «чай». Ужин мало чем отличался от завтрака. Но и это только когда кругом была спокойная обстановка и не пахло очередной блокадой. Не хватало витаминов, к весне многие болели цингой, расшатывались зубы, появлялась припухлость лица. Разные полоскания во рту мало помогали. Весной раскапывали снег на болотах, находили клюкву, делали из неё настойку и пили, но помогало мало. С появлением зелени постепенно все поправлялись, за счёт более частого посещения деревень, где деревенские харчи, хоть и не богатые, делали своё дело. Молоко, простокваша, лук, а иногда масло и яйца возвращали здоровье. Но всё тяжелее было населению прокормить увеличивающуюся массу партизан, оторванных от нормальной жизни и работы людей, озлобленных, с расшатанными нервами. Требовалась огромная выдержка, чтобы не скатиться до положения вооружённых нахлебников или просто бандюг, каких мне уже приходилось встречать.
Лично у меня душа не лежала сидеть на базе, поэтому всеми правдами и неправдами я старался попасть на задания. Находясь в группе Хатагова, с которым мы пришли из Налибокской пущи, я был вынужден, как и все в группе, ходить только на продовольственные операции, так как Хатагова начальство (т.е. Дима) далеко не отпускало с базы, а вместе с ним и мы далеко не могли отлучаться. Вечный весельчак Алеша Ключников из нашей группы тоже тяготился «базовой» жизнью, и, благодаря ему, насколько помню, вместе с ним я попал на задание с группой, которую возглавлял Иван Стародубцев. Выйдя с базы, мы должны были достичь железной дороги Молодечно—Полоцк, где-то между Молодечно и Вилейкой, пересечь её, добраться до района расположения станции Засковичи на дороге Молодечно—Вильно, где Стародубцев должен был встретиться со своим подпольщиком, получить сведения о движении на дороге и вернуться обратно.
Мы долгой ночью ехали на деревенских лошадях, меняя их время от времени вместе с хозяевами. Редко кто из хозяев сразу соглашался довезти нас до указанной ему деревни. Обычно разговор на эту тему начинался так:
— Хозяин, коня маешь?
— Не ма коня.
— А это что не конь?
— Яки то конь — то кляча (по-польски «кляч» — это кобыла).
— Так запрягай свою клячу, повезёшь нас.
— Та ёсть же, хлопчики, на вси (т.е. в деревне) и добры кони...
— Давай, давай, запрягай!
Очень ему не хочется ехать в тёмную ночь, но и коня отдавать жалко: вдруг пропадёт неизвестно где. Хотя надо отдать должное жителям белорусских деревень: даже за 10—20 километров оставляемые нами повозки и сани с лошадьми люди возвращали в названные нами деревни, где мы их брали.
Не все соглашались ехать с нами, и часто приходилось самим управляться с лошадью. Хорошо, если при этом была известна дорога, по которой ты уже проезжал или проходил, а по незнакомой — лошадь могла тебя завезти одному богу известно куда. Не исключена была также возможность нарваться на засаду немцев или полицаев, как это уже было со мной недалеко от Манил.
Другое дело, если хозяин знал тебя в лицо и уже ездил с тобой. Поворчав для приличия, что «на вси народу много», запрягал и вёз, делясь с нами иногда такими сведениями об обстановке в данном районе, которые из другого незнакомого возницы пришлось бы долго вытягивать. Приехав в указанную деревню и с радостью распрощавшись со своими «пассажирами», он обычно находил в этой деревне знакомых или родственников и, подождав у них до рассвета, возвращался домой.
Благополучно доехав до ближайшей к железной дороге Молодечно—Вилейка деревне, мы к величайшему удовольствию возницы спешились и отпустили его. Набраться нахальства и переехать железную дорогу прямо на розвальнях никто из нас не решался. Густым лесом по довольно глубокому снегу дошли мы до «железки» без всякого шума перешли её и побыстрее начали отходить. Погони ожидать не стоило, так как немцы, охраняющие дорогу, даже по свежим следам едва ли отважились бы идти ночью в тёмный лес. Порядочно устав, мы добрались до какой-то деревни, снова взяли возчика, погрузились в сани и редким сосновым лесом долго ехали к месту назначения. Остановились в лесу, не доезжая реки Вилии, за которой лежала железная дорога Молодечно—Вильно и станция Засковичи. Стародубцев с одним из партизан отправился за сведениями, а нам пришлось достаточно долго ожидать их. Было не особенно холодно, но мы подзамёрзли пока ехали после достаточно бодрого «улепётывания» от железной дороги, во время которого все крепко вспотели, и сейчас мороз пробирал до костей в наших далеко не таких тёплых одеждах и мокрой обуви. Стараясь не шуметь, приплясывали, толкали друг друга — словом, грелись, как могли.
Наконец, вернулся Стародубцев, сказал, что всё в порядке, и мы поехали назад. Была уже вторая половина ночи, а нам нужно было ещё поставить «рَапеду» при переходе «железки» «Молодечно-Вилейка.
Не знаю, кто ввёл в наш словарь это слово — «рَапеда».
Так называлась связка двухсотграммовых шашек тола, весьма похожих снаружи на обычные куски мыла жёлтого цвета, но с торцевым круглым отверстием для капсюля-детонатора. Шашки при помощи двух или более тонких дощечек и шнура связывались в прямоугольный пакет такой длины, чтобы его можно было поместить под рельс между шпалами.
Забавный случай произошёл в одной деревне, когда мы в присутствии старушки—хозяйки извлекли из вещмешка шашки тола и стали связывать из них «рَапеду». Старушка, не поняв, что мы делаем, попросила у нас «хоть бы один кавалек мыдла». Население бедствовало без мыла, которого негде было купить. Когда же ей объяснили, что один кусок этого «мыдла» может вдребезги разнести её хату, она в страхе, крестясь и причитая: «О,Езус Христус», «Бронь боже!», долго дрожала и успокоилась, наверное, только тогда, когда мы кончили свою работу и покинули её гостеприимный кров.
Заранее увязанная «рَапеда» была в вещмешке у одного из нас, у другого была подготовлена связка двух капсюлей—детонаторов, в которые были заправлены концы короткого отрезка детонационного шнура. При минировании один капсюль-детанатор вставлялся в отверстие одной из шашек «рَапеды», помещённой под рельс, а другой — привязывался к головке рельса так, чтобы движение колеса по рельсу раздавливало его. При этом он взрывался, передавая по детонационному шнуру (не путать с бикфордовым шнуром!) взрыв второму капсюлю, находящемуся в одной из шашек тола «рَапеды». Последняя при взрыве вырывала кусок рельса, калечила колёса паровоза, и при большой скорости, с какой тогда зимой 1942—43 годов шли немецкие эшелоны, паровоз и несколько вагонов оказывались под откосом. Если «рَапеду» удавалось поставить на закруглении пути, то иногда и весь эшелон оказывался под откосом, но такая удача случалась редко. В каждом случае движение останавливалось на время от нескольких часов до суток, не считая остальных потерь от взрыва.
Место минирования выбрали на старом недействующем переезде. Он был закрыт, через него не ездили, но пешеходная тропа по нему через железную дорогу существовала. Она обеспечивала нам достаточно быстрый отход в случае непредвиденных обстоятельств не по глубокому снегу, а по утоптанной дороге. Засада охраны на переезде была маловероятна. В то время, да ещё зимой, немцы не устраивали засад, а патрулировали по дороге группами в 3—4 человека.
С отчаянно бьющимися сердцами подходили мы к дороге. Остановились, прислушались. Тишина. Вышли на пути. По заранее распределённым обязанностям мне ещё с одним партизаном нужно было отойти по путям метров на 50—100 в зависимости от видимости для предупреждения о появления патруля. Двое других для этой же цели ушли по путям в другую сторону. Ребята быстро заминировали путь и сделали нам знак уходить. Всё прошло без всяких эксцессов. Таким образом мы пересекли дорогу и заминировали её. Теперь шли с максимальной скоростью, чтобы успеть подальше отойти от «железки». Деревни и хутора обходили, чтобы нас случайно никто не увидел. После взрыва будут искать виновников, и нам лишние свидетели ни к чему. Успели отойти на пару километров, когда услышали далёкий гудок паровоза. Остановились, прислушались. Состав шёл по пути, который мы только что заминировали (дороги там двухколейные). Уже отчётливо слышен стук колёс. И стук своего сердца — запыхались, вспотели, разнервничались. Стоим, ждем. Поезд всё ближе к тому месту, где заложена «рَапеда». Вот он уже прошёл это место... Недоумённо переглядываемся, кто-то уже безнадёжно делает жест рукой. У каждого только одна мысль: неужели придётся возвращаться и снимать неудачно поставленную взрывчатку? Ведь совсем скоро рассвет.
И вдруг грохнуло, да так сильно, как никто и не ожидал. За грохотом последовали другие звуки: что-то гремело, лязгало, шипело, снова гремело. Радость наша была неописуема. Думаю радовались мы больше не самому взрыву, а тому, что не надо идти снимать «рَапеду». Это ведь было у всех в мыслях, когда нам показалось, что поезд уже минул место минирования. Вскоре, там уже послышались выстрелы, очереди, но мы были недосягаемо далеко.
Ещё быстрей стали удаляться от дороги, стараясь за оставшийся час — полтора до рассвета отойти, как можно дальше. Не было у нас ни радостных объятий, ни пожатия рук, как это часто показывают в современных фильмах на партизанскую тему. Мы изо всех сил спешили как можно дальше оказаться от дороги. Успели отойти километров на пять, когда начало светать. Стали искать место днёвки. Облюбовали один хутор под лесом и завалились туда, предупредив хозяина, что останемся у него отдыхать и попросили его пару раз проехать по нашим следам на санях, чтобы хоть от людей замаскировать их (от собак — не поможет).
Хозяйка захлопотала у печи, чем могла покормила нас, хозяин принёс пару снопов соломы и расстелил её для нас на полу. Нашлось несколько домотканых постилок покрыть солому, и мы завалились не раздеваясь и не разуваясь. Как всегда, один из нас оставался дежурить, пока другие спали. Сменялись через час.
Обязанности дежурившего были самые прозаические: следить за обстановкой вокруг хаты и на ближайших хуторах, во дворе по возможности не показываться, чтобы не привлекать внимания соседей, не разрешать всем, кого мы застали в хате, отлучаться из неё, чтобы весть о нашем приходе не расползлась по деревне по крайней мере в первой половине дня. 3имние дни короткие, темнеть начинает рано, а значит и двигаться дальше можно раньше.
Хуже было, когда к хозяевам приходил кто-либо из деревни. Скрыть группу из пяти—шести человек от посторонних глаз зимой практически невозможно. Хаты в Западной Белоруссии, как правило, не отличались большими размерами, а чаще всего в четырех стенах без всяких перегородок размещалась вся семья со всей утварью, и всё было на виду.
В своё время в Польше (до 1939 года) была проведена парцелляция, т.е. ликвидация деревень и расселение их жителей на хутора. В результате выиграли те, кто остался на месте бывшей деревни, получив более плодородные земли. А те, кто выехал на хутора, получили земли больше, чем имели до расселения, но как правило, менее урожайной, иногда и голый песок, и влачили жалкое существование в маленькой хате из тонких брёвен — почти жердей, кое-как крытой соломой, с земляным полом, в которую морозной зимой приходилось брать из продуваемых ветром надворных построек и корову, и поросят, и кур. Легко себе представить, какая атмосфера стояла зимой в такой хате! Были, конечно, и богатые хутора, но встречались они редко и ещё реже рядом с лесом.
Из соображений безопасности нам приходилось дневать либо на хуторах в лесу, либо на худой конец под лесом и почти всегда в весьма небогатой обстановке. Устраиваться на соломе, постланной часто прямо на земляной пол, собирая на себя полчища блох и других кровососущих и мечтать о бане в своей «столице» — Бобрах.
Если же к хозяевам всё-таки кто-то приходил, и скрыть наше присутствие не было никакой возможности, приходилось его задерживать, затем отпускать, если его задержка могла вызвать приход его домашних и разглашение нашего пребывания, а самим срочно подниматься и без шума покидать такое тёплое убежище, меняя его на глубокий снег, холод, метель и хорошо, если к этому не добавляется погоня.
На наше счастье, в этот раз обошлось всё благополучно, все более или менее поспали. В середине дня отправили хозяина поближе к «железке» — к родственникам, которые у него там нашлись, и стали ‚ждать его возвращения или... облавы, если он, паче чаяния, окажется доносчиком (может, и не по своей воле).
После взрыва немцы обычно мобилизуют всех полицаев и отправляют их в ближайшие деревни и хутора на розыск подозрительных лиц. И поэтому поездка нашего хозяина к родственникам могла оказаться не такой уж безопасной.
Уже начало темнеть, уже хозяйка не могла скрыть беспокойства и стала посылать двух своих хлопцев сбегать на дорогу и посмотреть, не едет ли их отец, как тут он появился, и мы с нетерпением окружили его. Относительно результатов взрыва, он сообщил только, что паровоз и несколько вагонов лежат на боку, но немцы к ним никого не подпускают, да и жители не горят желанием подходить ближе, чтобы не оказаться в числе задержанных, и сидят по своим хатам. Полицаи же зверствуют, перерывая всё в хатах, перевернули всё вверх дном в стодолах (сараях), лазнях (банях), других подозрительных местах. Забрали солтуса (старосту) и увезли. Хорошо, что мы, хоть и «в мыле», но успели отойти подальше.
Поблагодарив хозяев и извинившись за все волнения, причинённые нашим приходом хорошим людям (а в Белоруссии они составляют значительное большинство, в чём мы уже не раз убеждались), мы отправились дальше. В соседней деревне взяли лошадей и к утру были в районе нашей базы. Стародубцев доложил Диме о результатах операции, Дима поблагодарил всех, разрешил отдыхать и съездить в Бобры, где мы обычно мылись в бане.
К сожалению, не всегда, а скорее редко такие операции, как минирование «железки» заканчивались так удачно. Много моих товарищей по партизанке вообще не вернулись с таких заданий, и я должен считать себя счастливчиком, что остался жив, хотя много раз непосредственно участвовал в минировании и железной дороги, и других объектов.
Где-то в середине зимы 1942-43 годов после участия во всевозможных мелких операциях, в основном, продовольственных и фуражных я отправился на задание с Колей Михеевым (Михеев Николай Гаврилович), чубастым казаком с Дона, красавцем, весельчаком, мастером на все руки, лихим гармонистом, правда, без гармони в данный момент. Как мы с ним оказались в одной упряжке, я уже не припомню. Наверное, определённую роль сыграло моё знакомство с местностью и людьми по дороге в Налибокскую пущу. Мне уже трижды пришлось её протопать: сначала из пущи к Диме, затем обратно в пущу и снова к Диме, каждый раз пересекая при этом и железную дорогу Молодечно—Минск и шоссе Радошковичи-Красное. У меня уже появились в деревнях по этому маршруту некоторые знакомые, что в нашем положении было очень важно. Михеев после побега из плена долго скрывался на хуторах Ионцевичи (недалеко от Красного по направлению к Минску), многих там знал и хорошо знал местность, прилегающую к железной дороге. В том же районе он вместе с другим нашим казаком Андреем Никитиным (погиб в 1944 году) создали агентуру из работавших на железной дороге или живших на станциях людей. Они вели учёт числа поездов и грузов, которые перевозили немцы на этом участке, и мы должны были регулярно, если позволяла обстановка, появляться у них, естественно только ночью, чтобы их не демаскировать и не погубить. Даже сведения, давность которых иногда превышала пару недель в сопоставлении с более поздними, могли представлять определённую ценность для Димы, а значит и для нашего командования в Москве. Но за сведениями нужно было ездить с большим риском для себя и для наших осведомителей, где-то встречаться с ними. Тем более, что многие из них жили в станционных посёлках в непосредственной близости от немецких казарм и расположения полицаев.
Вообще-то слово «полицай» в немецком языке означает «полиция», но белорусское население любого полицейского называло «полицай» (соответственно «полицаи» во множественном числе). В них чаще всего шли всякие подонки, но много было среди них и зелёной молодежи, поступившей туда служить по разным причинам. Одни — чтобы избежать угона в Германию на принудительные работы, другие — из корыстных побуждений, а некоторые, чтобы покрасоваться перед своими деревенскими, родственниками и панёнками (девушками) формой и оружием. Форму в 1941 году они носили польскую, вероятно, заимствованную немцами из польских военных складов после захвата Польши в 1939 году. Позднее их одевали в обмундирование разных захваченных немцами стран вплоть до французского и даже английского (видимо после Дьюнкерка).
В декабре 1942, а может, в январе 1943 года Николай Михеев и я направились для встречи с нашими подпольщиками. Знал их Михеев, а я был в качестве сопровождающего, так как ехать одному слишком опасно. Наше путешествие началось не совсем обычно. Приехав в Манилы — «столицу» отряда Лунина, Михеев начал с того, что «нарисовал» сапоги одному хозяину, славившемуся «обдиралой» партизан. Дело было так. После того как мы, остановились в деревне, пообедали у знакомых подъехали к его хате, и Михеев предложил ему свои сапоги за пару бутылок самогону. Тот согласился, но сообразив, что тут что-то не совсем чисто, спросил:
— А як же товарыщ партизан будет без бутов?
— А у меня есть в запасе, — ответил Михеев и кивнул на кучку сена в розвальнях на которой мы перед этим сидели. Под сеном действительно что-то лежало из наших вещёй, но отнюдь не сапоги. Хозяин ещё раз с недоверием посмотрел на нас, а затем на его сапоги. Обошёл вокруг Михеева, разглядывая предмет купли—продажи на чужих ногах. Тот же специально показал ему и каблуки и подошвы. Сапоги были добротные. Я с интересом наблюдал эту сцену, не представляя, чем она закончится.
Хозяин зашёл в хату и вынес солидную бутыль мутноватой жидкости. Михеев с видом знатока откупорил бутыль понюхал, крякнул и сказал:
— Ну, добре, — и стал упрятывать бутыль в сено на розвальнях, а мне шепнул: — Садись, бери лейцы (вожжи)!
Хозяин всё ждал сапоги, а Михеев старательно устанавливал бутыль, обложил её со всех сторон сеном, чтобы не перевернулась. Я схватил вожжи и сел со своей стороны саней.
Наконец, хозяин в какой-то нерешительности взмолился:
— А сапоги?
— Ах, сапоги, — небрежно заметил Михеев. Быстро достав из кармана кусок мела, видимо, заранее припасённый для этого, он шагнул к двери хаты, быстро начертил на ней один сапог, рядом побольше размером — другой и добавил:
— Вот тебе сапоги, носи на здоровье; когда этот износится, — указал на меньший — от этого отрежешь, — указал на больший — и добавишь к этому.
С этими словами он быстро сел на другую сторону саней, крикнул на лошадь; та с места взяла по свежевыпавшему снегу. Через минуту мы были далеко. Я не мог сдержать себя, чтобы не расхохотаться.
— У этого стервеца зимой даром снегу не выпросишь! Не то что рюмку водки. Всех норовит ободрать, — со злостью сплюнул Михеев и, взяв у меня ножки, начал погонять.
Впоследствии об этом случае узнала вся деревня. Из уст в уста передавалась история, как партизаны «нарисовали» сапоги жадному односельчанину.
К вечеру через Загорцы доехали мы до большой деревни Сычевичи, уже знакомой мне по предыдущим походами. Деревня эта, расположенная вдоль речки Рыбчанки, была предпольем партизанской деятельности не только нашего отряда, но и лунинского (впоследствии бригада им.Фрунзе). Она была как бы на границе нашей партизанской зоны, заканчивающейся лесным массивом и речкой Рыбчанкой, за которой и лежали Сычевичи. Немцы и полицаи могли нагрянуть в деревню, но за речку в лес могли отважиться, только собрав значительные силы, тем более, что все мосты через неё были сожжены партизанами раньше. Лишь за рекой партизаны чувствовали себя в относительной безопасности. В сторону же шоссе Радошковичи—Красное от Сычевичей лежала открытая местность, без лесов, очень неудобная для партизан, так как её нужно было преодолевать только ночью. Поэтому деревня Сычевичи и особенно хутора Боры в лесу севернее её были особенно часто посещаемы партизанами либо уходящими на задания в район шоссе или «железки», либо возвращающимися с заданий.
Ближайшим, лежащим в полукилометре от Сычевичей, на берегу реки и под лесом стоял хутор, хозяева которого были Клюи (не помню уже, то ли это фамилия хозяев, то ли прозвище). Удачное его местоположение недалеко от деревни и рядом с лесом приводило к тому, что редко какой день проходил без посещения его партизанами того или иного отряда. Гостеприимство хозяев было тоже широко известно, и злоупотреблять им нам не хотелось.
Зная всё это, мы с Колей решили остановиться не у них, а прямо в деревне на северном конце её, ближайшем к Клюям. Насколько помню, заехали в хату Димука Третьяка (Димук — белорусское сокращение от имени Дмитрий).
Удивлению хозяев не было предела, когда мы из возка достали солидную бутыль самогона — плату за «нарисованные» сапоги.
— Первши раз вижу хлопцев со своим бимбром! — только и нашёлся сказать наш хозяин.
— Баба, собирай вечерять! Як приезжают хлопцы, так треба ж кормить, а часом, як ёсть, так и трохи выпить, а тут хлопцы со своей горилкой! То цуд над Вислон!
В Белоруссии население в разговоре часто употребляло польские словечки и выражения. У молодежи считалось даже своего рода шиком разговаривать особенно на вечеринках в присутствии панёнок (девушек) только по-польски, целовать ручку, отличиться в польских танцах и т.п. Ведь Западная Белоруссия около двадцати лет была под властью панской Польши, в школах детей учили только по-польски, и официальные власти всяческими способами старались искоренить белорусскую мову (язык) среди своих подданных.
Выражение «Цуд над Вислон» (чудо на Висле) требует некоторого разъяснения. Чудом на Висле в Польше называли отход войск Красной Армии, после того как армии Тухачевского летом 1920 года достигли предместий Варшавы, а конный корпус Гая прорвался даже к границам Германии, выполняя приказ Тухачевского: «На штыках принесём рабочему люду счастье и мир! Вперёд на запад! На Варшаву! На Берлин!»![]() Казалось, что никакие силы уже не могут предотвратить падение Варшавы, уже создавалось из поляков—коммунистов в тылу Красной Армии правительство (Временный Революционный Комитет Польши) будущей Польской Социалистической Республики, но Антанта, возглавляемая Керзоном, направила буржуазной Польше тысячи тонн оружия и боеприпасов и сотни военных инструкторов, и Красной Армии с далеко отставшими тылами пришлось откатиться
Казалось, что никакие силы уже не могут предотвратить падение Варшавы, уже создавалось из поляков—коммунистов в тылу Красной Армии правительство (Временный Революционный Комитет Польши) будущей Польской Социалистической Республики, но Антанта, возглавляемая Керзоном, направила буржуазной Польше тысячи тонн оружия и боеприпасов и сотни военных инструкторов, и Красной Армии с далеко отставшими тылами пришлось откатиться![]()
![]() .
.
Отдохнув у Третьяка, утром попросили его съездить под Красное, навестить своих знакомых и узнать обстановку. Налили ему с собой бутылочку, чтобы развязались языки у его собеседников, и стали ждать его возвращения. Нам важно было знать что творится в районе Красного, где Михееву нужно было добраться до своей агентуры, а затем предстояло форсировать «железку» и отъехать от неё в безопасное место для днёвки.
Димук, вернувшись, сообщил, что в Красном всё спокойно, взрывов последние дни нет, немцев мало, полицаи рады, что нет взрывов, т.е. обстановка для нас самая подходящая.
Вечером выехали мы по направлению к шоссе Радошковичи — Красное. Погода испортилась, холода сменились оттепелью. Мои валенки, которые я по глупости выменял за свои уже здорово поношенные сапоги, надеясь на холодную, как в сорок первом, зиму, начали раскисать. Ноги намокли, как только мы оставили на одном из хуторов рядом с «шоссой» нашу повозку и пошли пешком. У самой «железки», где-то рядом с Красным (железнодорожная станция Ушَа, про которую я уже упоминал) в темноте ночи, мы добрались до каких-то строений, явно не крестьянских, и Николай, оставив меня в кустах у дороги, пошёл вперёд один. Выбрав место повыше, где снег не так размок, я ждал, воюя с начавшими мёрзнуть мокрыми ногами, тихонько переступая с ноги на ногу. Совсем рядом прогрохотал железнодорожный состав. Долго мне пришлось ждать, пока, наконец, появился Николай, сказал, что всё в порядке, и мы отправились в ночную темноту. Михеев хорошо знал эти места, и вскоре по небольшому мосту мы пересекли речушку, тянущуюся вдоль железной дороги, а затем и саму дорогу, и, минуя разбросанные хутора, начали подниматься в гору.
Нервное напряжение, которое достигло максимума в момент перехода дороги, постепенно спало, и... опять начали мёрзнуть ноги. Отойдя с полкилометра от дороги и оставив её за горой, постучали в один из хуторов и попросили хозяина подвезти нас. Видимо, Николай знал его, так как тот даже не заупрямился, как обычно бывало, ссылаясь на «клячу» и т.п. С ним мы доехали до хуторов Парадовщина. Я их помнил ещё с того времени, когда после третьего побега из плена шёл на восток в поисках партизан и был в соседней деревне Ляльковщине, а затем на Пранчейковских хуторах встретил ребят, с которыми и пришёл в отряд Кузнецова.
Хутора Парадовщина лежали, как это ни странно, не в лесу и не у леса, а почти на открытой местности. Только кое-где были группы деревьев и отдельные кусты. Николай сказал, что это самые безопасные хутора с хорошим народом, в чём я очень быстро убедился. Близился рассвет. Мы зашли на один из хуторов. Хозяева уже встали, приняли нас радушно, накормили. Увидев мои расползающиеся мокрые валенки, хозяин покачал головой, сказал, что в такой обувке я пропаду, принёс куски какой-то кожи, дратву и принялся подшивать их кожей. После ночных волнений, холода, мокрых озябших ног, после плотного завтрака, тепло разморило меня, и я провалился в сон. Проснулся только во второй половине дня. Рядом с моей постелью стояли высушенные, аккуратно обшитые снизу кожей валенки, на которые как бы были одеты кожаные галоши.
Михеев, как я понял, видимо, не сомкнул глаз. Он, достав где-то перед этим немецкий парабеллум, делал для него патроны из обычных патронов к пистолету ТТ. Для этого ему приходилось вынимать из патрона ТТ пулю, высыпать порох, слегка обрезать патрон, т.е. его суживающуюся часть. Оставшаяся часть подходила по калибру к «парَабелу» (так для краткости он у нас назывался), но нужно было ещё отлить пули тоже бَольшего калибра, снова зарядить патрон порохом, запрессовать в него новую пулю, при этом сделать всё так аккуратно, чтобы патрон не взорвался в руках.
Сделав таким образом штук пять патронов, он полез в подвал под хату, где у хозяина была яма с овощами, и спустившись в неё, пробовал как стреляют «вновь испечённые» боеприпасы.
Выстрелы в хате прослушивались, как глухие хлопки, а вне хаты их и совсем не было слышно. Естественно, не было слышно их и на соседних хуторах.
Я тоже воспользовался оказией, чтобы посмотреть свою винтовку образца 1891 года, которая почему-то не всегда стреляла и могла здорово меня подвести. Я думал, что это происходит из-за плохих патронов, долго пролежавших в земле, которые я потом тщательно протирал от зелени окислов. Николай быстро определил, что патроны тут не при чём, а виноват разрегулировавшийся боёк затвора: он не разбивал капсюля, оставлял на нем лишь слабый след удара. Поэтому не каждый патрон стрелял. Мы быстро устранили эту неисправность, и теперь меня могли подвести действительно только патроны.
У Михеева были золотые руки. Вечно он что-то ремонтировал, и в его кожаной сумке всегда были кое-какие инструменты для слесарных работ, хотя вес груза, который нам приходилось постоянно носить (оружие, боеприпасы, а иногда и вещмешок с толом), часто переваливал за пуд. И всё это висело на твоих плечах и во время многокилометровых походов и во время стычек с немцами, полицаями, когда приходилось и бежать и ползать, падать и вскакивать... Особенно тяжело приходилось тем, кто имел ручной пулемёт Дегтярёва, вес которого ни в какое сравнение не шёл ни с винтовкой, ни с автоматом.
Тем не менее Михеев не расставался со своим инструментом и всегда таскал его с собой. С одинаковой лёгкостью он мог починить висячий замок, наган, швейную машину. Одним словом был мастером на все руки. Знал также толк в лошадях, отлично чувствовал себя и в седле, и на телеге. Кроме всего оказался ещё и неплохим гармонистом.
Покормив нас, хозяин подвёз меня и Михеева знакомыми ему тропами и дорогами, минуя хутора и деревни по направлению к железной дороге Молодечно—Лида и, когда стемнело, распрощался с нами. Судя по нему, действительно люди в Парадовщине были золотыми. Ноги мои, в так заботливо подшитых валенках, окутаны были приятным теплом. Невольно закрадывалась мысль, сможем ли мы когда-нибудь отблагодарить всех тех на белорусской земле, кто нас кормит, одевает, возит и оказывает ещё тысячу мелких услуг, нередко сопряжённых с риском для собственной жизни.
Опять нам с Михеевым пришлось брать лошадь с упряжкой и уже вдвоем (хозяин ехать отказался) продолжать путь по заснеженным полям по направлению к Хожово и далее к «железке», где Михеев отправился к своему связному, а мне пришлось его достаточно долго ждать буквально на середине поля — лесов тут не было. Опять рядом была железная дорога, опять по ней громыхали поезда и на запад к Лиде и на восток к Молодечно. Опять на них, возможно, ехала смерть для наших солдат, сражающихся где-то далеко на востоке. А ты тут стоишь буквально рядом с дорогой и не можешь ничего предпринять. На базу давно не приходили самолёты, мы бедствовали из-за отсутствия тола и боеприпасов, и напрасно дежурили ребята из наряда «ханбаты»: самолётов не было слышно.
Иногда от радистов мы слышали, что идут тяжёлые бои под Сталинградом и на Северном Кавказе, и мороз пробирал от мысли: как же далеко продвинулись немцы. И когда же кончится это отступление? Ведь война тянется уже второй год.
Мои нерадостные мысли прервал приход Михеева.
— Порядок, — коротко сказал он. — А теперь поедем «пробомбим» хутора Ионцевичи. Они растащили целый склад армейских валенок в Красном, когда наши отступали. В каждой хате их по нескольку пар, а мы тут мёрзнем...
— Но там же «железка» в двух шагах! — возразил я, вспоминая, с какой опаской мы её переходили прошлой ночью, и холодок побежал по коже от этих воспоминаний.
— Ничего! Я их там всех знаю, куркулей, у которых много нахапано. Мне отдадут и спорить не будут, — уверенно сказал Михеев.
— И что мы будем с ними делать? Опять в Парадовщину?
— Там посмотрим...
Михеев пошевелил вожжами, и застоявшаяся лошадь рысцой понесла нас в обратную сторону. Ехать пришлось долго. Иногда мы останавливались, и Михеев пытался как-то сориентироваться в этой ночной мгле, затем ехали дальше. Потом повалил густой снег, но мы были уже у цели. Николай действительно знал, у кого искать валенки. Большую их часть мы взяли без всяких поисков, так как в любой хате они сушились либо у печки, либо на ней, и никто не пытался даже их прятать. Да и по цвету и по выделке их нельзя бы спутать с изделиями местных каталей. Отдавали тоже без особых возражений, понимая, что достались они им даром, и что нам они нужнее. Но попадались и такие «куркули», которые нахапали их много и хранили, рассчитывая, видимо, несколько лет пользоваться дармовщинкой, а нам предлагали уже изношенные и подшитые. Но Михеев чуял, где искать, где они могут быть спрятаны, и находил новенькие, ни разу не одёванные. Почти всех жителей Ионцевичей он знал, да и они, как я понял, его знали, и им было трудно что-либо возразить ему.
Таким образом мы нагрузили полные розвальни валенок. Кроме них Михеев реквизировал трёхрядный баян, оставленный также нашими бойцами при отступлении, а я, разыскивая валенки, наткнулся в одной из хат на запрятанное охотничье ружьё и забрал его — ещё одного человека вооружить можно.
Приближалось утро, снег повалил ещё гуще.
— Давай махнем прямо через переезд! — набрался нахальства Николай, кто в такую погоду будет его охранять?
Лошадь резво понесла под гору и мы прямо по переезду перемахнули через железную дорогу, через плотину небольшой речушки и помчали дальше. Также с ходу пересекли шоссе Радошковичи—Красное и вскоре были на хуторе, где оставили свою лошадь.
Конечно, рисковали мы сильно, пересекая на лошади и железную дорогу и шоссе, но перспектива снова ехать хотя бы в ту же Парадовщину или в другое более или менее безопасное место после того, как мы подняли на ноги все хутора Ионцевичи — а об этом, конечно, было бы сообщено немцам — такая перспектива была, пожалуй, не менее опасна. Уехать же достаточно далеко за оставшееся до рассвета время мы бы не успели.
Чтобы не перегружать валенки и выиграть время, перепрягли лошадей, сказали хозяину куда днём отогнать повозку и помчались в Сычевичи. Уже рассвело, когда мы вернулись к Третьяку.
— Ну и добре, зараз снядане зробимы, и спите. У нас тут тихо. А як кто объявится на тым концу вёски, то я допильную (А если кто появится на том конце деревни, то я прослежу).
После тяжёлой ночи и сытного завтрака мы с Колей спали «без задних ног». Проснулись только под вечер. В деревне весь день было тихо, и хозяин не будил нас.
Ехать на ночь глядя не хотелось, да и устали мы порядочно за эти две ночи. Во время обеда (скорее ужина) Третьяк частенько поглядывал в ту сторону, где стояла оставленная у него бутыль с самогоном за «нарисованные» сапоги. Мы поняли намёк, угостили хозяина, пришлось угощаться и самим. Ехать решили на другой день утром. Дальше шли партизанские районы, и вероятность появления в них немцев даже днём была невелика.
Увидев в нашем багаже гармонь, хозяин вежливо осведомился, не умеет ли кто из нас играть. Пришлось Николаю раздвинуть меха. Играл он, может быть, и не очень здорово, но в белорусских деревнях, особенно в Западной Белоруссии, гармони были редкостью, и на звуки музыки начали собираться сначала соседи — послушать, а затем по деревне разошёлся слух: «Партизаны приехали, с музыкой!» И в хате набилось порядочно людей, естественно, молодежи и девушек, и парней. В Западной Белоруссии не везде успели провести мобилизацию в армию из-за быстрого продвижения немецких войск.
Пришлось Николаю выступить перед этим импровизированным собранием. Речь его закончилась традиционными в то время словами: «За Родину! За Сталина!» После этого начались танцы. В качестве гармониста выступал Михеев, мне же пришлось распорядиться остатками нашего самогона, так как гости начали угощать «музыкантов», и нам не удобно было оставаться в долгу.
Там же на вечеринке я познакомился с одной миловидной девушкой. Звали её непривычным для меня именем Зося. Уже поздно ночью я один отправился её провожать на другой конец деревни.
Винтовку, конечно, взял с собой, и мне было очень неудобно вести её под руку, а другой придерживать винтовку. Все там принимали меня за белоруса и именно за западного белоруса. Так как во время своих скитаний после плена я всё время был на Западной Белоруссии и настолько освоил их выговор, что они принимали меня за «тутейшего», т.е. местного жителя. К тому же я, как и они, часто вставлял в свою речь польские слова и обороты, и они считали меня не «восточником» (с восточной, т.е. советской Белоруссии), а западником».
Когда под влиянием винных паров я признался ей, что никакой я не «западник», а родом с Урала и жил в Ленинграде она удивленно посмотрела на меня и не поверила.
Да и трудно было поверить: на мне был домотанный френч с накладными карманами местного пошива, облеенные (сбитые леями) брюки—галифе тоже местного производства — выменял их на ватные армейские, в которых мне показалось жарко, даже зимой — на ногах мягкие валенки, обшитые кожей явно белорусским «шевцом». За спиной старенькая, видавшая виды винтовка.
Другое дело Николай. В своей казацкой кубанке, кожанке, с чистеньким блестящим кавалерийским карабином и двумя револьверами (ТТ и «парَабел») у пояса он явно не походил на местного жителя, хотя белорусский выговор знал не хуже меня, но почти не пользовался польскими выражениями. Из-под кубанки торчал непокорный чуб чёрных слегка вьющихся волос, чёрные усы. Не парень — картинка! Уж его никак не примешь за местного жителя. Многие деревенские красавицы заглядывались не него, но... играть на гармони было некому, а что за вечеринка без музыки?
Хата моей спутницы оказалась настолько малой, тесной и убогой, что там негде было даже присесть, и я вскоре ушёл. Впоследствии, бывал в Сычевичах, я встречался с ней ещё несколько раз.
На другой день без всяких происшествий мы вернулись на базу. Николай доложил Диме о результатах, тот остался доволен. С тех пор у меня с Михеевым установились приятельские отношения, и мы часто вспоминали «нарисованные» им сапоги.
Привезённые нами валенки оказались очень кстати, так как морозы усилились, и стоять на постах без валенок, да ещё в нашей плохонькой одежонке было просто опасно для всего отряда. Валенки быстро нашли своих хозяев и до весны служили им исправно.
Хорошо запомнился мне также День Красной Армии — 23 февраля 1943 года. Мы как раз приехали с какой-то операции и до базы добрались только вечером. Ещё до нашего появления весь личный состав (кроме наряда, естественно) был собран в землянке, где Дима всех поздравил с праздником и разрешил к ужину выдать «боевые сто грамм» из заранее припасённого на этот случай нашим хозяйственником Урбановичем самогона.
Мы приехали, когда «возлияние» было в самом разгаре. Нам, как опоздавшим, налили по «штрафной», и наше настроение быстро пошло в гору. Ушли далеко многочисленные невзгоды нашей жизни, всем хотелось хоть ненадолго забыться от кошмарной действительности и почувствовать себя в далёком прошлом, вспомнить мирные дни, поделиться своими воспоминаниями и с близкими друзьями, и с теми, к которым особого расположения не испытывал, но оказался соседом по «столу» (стола не было — некуда было его ставить). Все в землянке разбились на отдельные группы, в каждой из которых слышался громкий разговор, смех, возгласы.
Вдруг в землянку врывается Сашка Жариков (Александр Денисович) — наш радист, хотя и не из десантников, наш единственный специалист по ремонту радиоаппаратуры — и громко, чтобы все слышали, объявляет: «По радио получено сообщение: гитлеровская группировка под Сталинградом уничтожена! 330 тысяч «фрицев» 22 дивизии!!!»
Сообщение вызвало бурю восторга, все расспрашивали у Саши подробности, но он мало что мог сообщить, так как для прослушивания передач использовался тот же «Северок». Необходимость экономить питание рации сводила до минимума время включения аппаратуры на приём. С батареями было так же, как с толом. Их экономили, как могли, чтобы не остаться без связи.
Из того же периода времени запомнилась мне песенка, уже не помню чьего сочинения, на мелодию популярной песни «И кто его знает».
И кто его знает, Чего он попадает ................
Остальные куплеты в памяти не сохранились.
Этой же зимой 1942—43 годов (уже не помню точно в каком месяце) немцы снова нарушили нашу уже устабилизировавшуюся жизнь в районе Бобров и навалились на наш район с ещё одной блокадой. Дима, предупреждённый своей минской агентурой, распорядился перебазироваться сначала на хутора Валентиново, а затем и дальше на север, ближе к Бегомлю в деревню Людвиново. Переждав там несколько дней, мы возвратились, и нашли нашу базу, к счастью, нетронутой — немцы до неё не дошли. Но деревни наши пострадали куда больше: недосчитались некоторых молодых парней и девушек — угнали в Германию на работы; недосчитались и много скота и другой живности. Всё бедней и бедней становились деревни.
Ранней весной 1943 года в составе одной из групп мне снова пришлось проходить знакомым маршрутом через Сычевичи — эту действительно деревню, по какой-то причине не расселённую на хутора. За время «партизанки» мне раз до десяти пришлось в ней бывать, а вот после войны — ни разу. И какова её судьба, увы, мне неизвестно. Уже не могу вспомнить, на какое задание мы отправлялись, из состава группы помню Климашова Сеню (Семён Корнеевич) десантника, заброшенного к нам весной 1942 года. Вообще, я очень не любил сидеть на базе, стоять в караулах, дежурить, в отличие от некоторых наших партизан, которых из неё на задания и силой нельзя было вытащить — они обзавелись в ближайших деревнях подружками, «тёщами» и прочим «родством», которое их и подкармливало и подпаивало, несли караульную службу, ходили на продовольственные операции в более или менее безопасные места и считали, что этим выполняют свой долг.
Из Сычевичей мы двигались к железной дороге Минск—Молодечно. Весна была ранняя и дружная. Многочисленные ручьи превратились в стремительные потоки, которые мы с трудом форсировали. Переходя один из потоков по белорусской «кладке», как везде состоящей из одной жердочки, я потерял равновесие, пытаясь выровняться отпустил ремень винтовки, балансируя вытянутыми руками. Винтовка соскользнула с плеча и упала в поток.
Пришлось мне за ней лезть в ледяную воду чуть не по пояс да ещё шарить её рукой на дне потока. Вымок я по плечо. Была уже ночь, ночной морозец сковывал лужи. Решили, что я пойду на ближайший хутор и постараюсь как-нибудь обсушиться, а они пойдут дальше выполнять задание. Встречу наметили в Сычевичах на другой день.
Хозяин хутора, куда я пришёл, оказался замечательным мужиком. Поняв, что со мной произошло, он скомандовал мне раздеваться догола и лезть на печку, где сам он до этого спал. Мои мокрые одежды развесил около печи для просушки, потом принёс солидную «шклянку» бимбра, заставил меня выпить и тепло укутал. Тепло и бимбер возымели своё действие: я крепко уснул.
Ещё не начало светать, когда он, видимо так и не сомкнув глаз в течение ночи, разбудил меня. Я быстро оделся в полусырую одежду. Он снова принёс «шклянку». Думая, что это опять самогон, я замахал руками, но он успокоил:
— Не, то не бимбер. То гарбата, таки чай!
Это был горячий настой каких-то трав или корешков. Я выпил пахучую жидкость, поблагодарил хозяина, извинился за причинённое беспокойство и оставил его гостеприимный дом.
Уже начало светать, и я быстро, быстро зашагал по замёрзшим лужам и остаткам снега. Мокрая одежда постепенно прогрелась, и я уже не чувствовал неприятного холодка от неё. Было совсем светло, когда я достиг Сычевичей. В знакомой хате уже были наши ребята, и все обрадовались моему появлению. До вечера одежда на мне окончательно высохла, чувствовал я себя хорошо и считал, что на этом и закончится история с моим «купанием». Последствия его объявились значительно позднее.
В тихие тёплые весенние вечера, когда комары ещё не заполнили своим противным звоном наш болотистый лес, кто-нибудь приносил из кухни огонька (костёр на кухне под навесом тлел всю ночь, чтобы утром не возиться с разжиганием: спичек не было, рассчитывать можно было только на кресало), разводил маленький костёр внутри прямоугольника, выложенного из брёвен, заменяющих скамейки. Собирались свободные от наряда и операций коротать время перед сном. Садились на брёвна, крутили цыгарки из жуткой смеси конюшины (клевера), листьев и других трав, заменяющей табак, которого негде было достать, как и бумаги. Начинались всевозможные рассказы, воспоминания из такой далёкой довоенной жизни, шутки, розыгрыши. Народ в большинстве своём был молодой и веселый. Иногда вспоминали товарищей, которых с нами уже нет, но никогда не впадали в уныние.
Любили тихо напевать старинные песня про Стеньку Разина, Ермака, «За Доном гуляет» и другие. Пели также грустную, очень выразительную песню, которую до тех пор мне ни разу не приходилось услышать, и я не мог определить, к каким временам она относится, и кто мог её сочинить:
Пели и свою партизанскую, неизвестно кем сочинённую, на мелодию «Ой вы кони, вы кони стальные, боевые друзья трактора...»
Припев: Мы при встрече с врагом Пулемётным огнём Дадим чёсу фашистам германским. Наша поступь тверда, И врагу никогда Не гулять по тропам партизанским! Нам не страшен ни дождь, ни прохлада, Нам не страшна ночная езда. Мы порвём все мосты и дороги, Заминируем путь поездам. Припев Пусть не мыслит фашистская нечисть Боевых партизан разогнать. Они тоже прекрасно умеют Вас фашистов свинцом угощать. Припев
Заводилой по песням была обычно жена Николая Кайдалова (Николай Михайлович) — Зоя. От неё, возможно, в первый раз услышал я песню, сочинённую, вероятно, в Литве, уже после её оккупации немцами:
Что такое Собач, меня тогда как-то не интересовало. Название местности, улицы, крепости? Ну а позднее не у кого уже было спрашивать.
Но, несомненно, самой любимой, которую пели и там в лесах, и на многочисленных встречах уже после войны была, может быть, несколько наивная песня о судьбе бойца:
Тугой комок подступал к горлу у каждого при этой несбыточной мечте, написать когда-то письмо домой и тем более вернуться...
Не было тогда ещё возможности нам, рядовым бойцам партизанской армии, послать весточку далёким родным о себе. Такая возможность появилась только где-то весной сорок четвёртого.
Был разгар весны 1943 года, снег почти весь сошёл. Люди начали заниматься обработкой своих полей и огородов, как нагрянула новая беда. Прилетели немецкие самолёты и, видимо, не найдя партизан в лесах, начали бомбить деревни и работающих на полях. Самолёты были и не «мессеры» и не «юнкерсы», да и скорость их была как у наших У—2. Прилетали они несколько раз, бомбы сбрасывали не точно и потерь больших не нанесли ни среди населения, ни среди партизан. Сгорело несколько строений. Вскоре налёты прекратились, но население было сильно напугано и с опаской прислушивалось к любому шуму, похожему на завывание мотора, прячась в погребах, ямах и других подходящих местах. Может, немцы пытались сорвать весенние полевые работы в нашем партизанском районе? Кто знает?
Нам эти бомбёжки кое-что дали. Мы уже долго сидели без взрывчатки. Самолётов из Москвы не было, и наши диверсии на дорогах на какое-то время прекратились. И вдруг нам сообщили, что некоторые бомбы не взорвались, и жители знают, где они упали.
Со всевозможными предосторожностями принесли их на базу. «Бомбы» оказались нашими трёхдюймовыми снарядами с приделанным к ним оперением, весьма небрежно выполненным.
Михеев, естественно, заинтересовался такой «добычей». Он осторожно отделил стабилизаторы от снарядов и отправился к Диме на переговоры. Как я после понял, он предложил использовать эти снаряды в качестве так недостающей нам взрывчатки. И получил согласие попробовать.
Вести большую группу (5-6 человек) он отказался;
— Много народу — больше шума! Зачем?
Он договорился с Димой, что отправится вдвоём с кем-нибудь, и этого будет вполне достаточно. В качестве спутника он выбрал меня, вспомнив, видимо, как удачно мы с ним провернули дело с валенками.
— Пойдём туда же, к Ионцевичам под Бояры, там есть хорошие места для подрыва...
Уже хорошо знакомым путём через Бобры, Калачи, Козлевщину, Паныши, Манилы, Загорцы добрались мы до Сычевичей. Два снаряда лежали в моём мешке, аккуратно обёрнутые мягким тряпьём. У Николая был третий снаряд и запальная шашка тола, а также капсюли—детонаторы и детонационный шнур.
Везти в своём мешке, охраняя его от случайных ударов два невзорвавшихся снаряда, даже хорошо упакованные — не особенно приятное занятие. Да и сколько уже хороших ребят погибли от случайных взрывов при неосторожном обращении со взрывчаткой... Вспомнить хотя бы Кузнецова и Щербину, о которых мне рассказывал Петя Трошков (Трошков Пётр Дмитриевич), сам пострадавший при этом взрыве, но чудом оставшийся живой. Не даром есть у солдат поговорка, что «минёр ошибается один раз в жизни», ибо с его ошибкой кончается и его жизнь. Были мы тогда молодыми, горячими, излишне самоуверенными, и каждому хотелось чем-то оправдать тот хлеб, которым кормила нас многострадальная белорусская земля.
Ещё в Сычевичах Николай приготовил всё для установки такой необычной взрывчатки. Снаряды решили не связывать между собой, а просто положить их рядом друг с другом между шпалами под рельс, сверху укрепить подрывную толовую шашку. По креплению капсюлей-детонаторов у Михеева был богатый опыт: он не один раз уже это делал, и мне оставалось только перенимать опыт.
Снег давно сошёл, греметь на всю округу колёсами телеги в ночной тишине было небезопасно, и поэтому весь путь до «железки» нам с Михеевым пришлось протопать пешком. Ночь выдалась лунная. С одной стороны это плохо, с другой — хорошо. Плохо, что нас будет видно при подходе к дороге, если там будет засада или патруль нас обнаружит раньше, чем мы заметим его. Хорошо, так как позволит всю работу по установке взрывчатки выполнить не в темноте, а хотя бы при минимуме освещения. Одно дело всё делать на ощупь и совсем другое — когда хотя бы что-то видно.
Благополучно пересекли мы шоссе Радошковичи — Красное и вскоре подошли к дороге. В данном месте она шла в низине, за ней чернел лес, а нам нужно было спуститься с горушки, впереди внизу за небольшим ручейком лежала насыпь. Слева от нас горку покрывали деревья, за ними чернело какое-то строение по всей видимости заброшенное. В тени этих деревьев мы спустились вниз, пересекли ручеёк и взобрались на насыпь. Было тихо, каждый из нас слышал только стук своего сердца. Выждали немного, прислушиваясь, затем ножами быстро вырыли ямку под рельсом между шпалами и осторожно уложили туда наши снаряды.
— Ты смотри и слушай, а я сейчас всё доделаю, — тихо сказал Николай и принялся колдовать с капсюлями-детонаторами, прикручивая тонкой проволочкой один из них поверх рельса. Второй, соединённый с первым коротким куском детонационного шнура (всё это Николай приготовил ещё в Сычевичах), он вставил в отверстие толовой шашки и укрепил её поверх снарядов. Затем быстро засыпал всё землёй и разровнял её. Из земли рядом с рельсом торчал кусок детонационного шнура к капсюлю—детонатору на рельсе.
— Всё. Пошли! — мы быстро скатились с насыпи, перепрыгнули через ручей и по полю побежали прямо от дороги.
Всё дальнейшее зависело только от случая: либо поезд нарвется на нашу мину, либо её заметит патруль, что в лунную ночь вполне могло случиться. Какое событие будет опережать — это от нас уже не зависело. Нам и в том и в другом случае следовало как можно быстрее ретироваться за шоссе, где было относительно безопасно, так как в случае взрыва немцы и на шоссе могли устроить засады.
Опять нам с Михеевым пришлось развивать максимальную скорость, но до шоссе мы дойти не успели. В ночной тишине чётко стал прослушиваться шум приближающегося поезда. Он шёл по направлению, которое мы только что заминировали. Мы успели отойти километра на два, но в ночной тишине грохот идущего поезда был так отчётливо слышен, как будто до него рукой подать.
Снова, как и при первом взрыве зимой, мне стало казаться, что поезд уже миновал то место, где заложена наша взрывчатка. Я повернулся к Николаю, он, видимо, понял мой молчаливый вопрос, но только сделал жест рукой, чтобы я слушал.
Ещё несколько секунд ожидания, волнения, надежды....
Страшный грохот потряс ночную тишину. Мы стояли на какой-то горушке, ошеломлённые этим грохотом. Ни я, ни Михеев не ожидали такого ужасающего взрыва: то ли заряд из трёх снарядов оказался куда сильнее двух—трёх килограммов тола, обычно увязываемых в «рَапеду», то ли безмолвие так усилило звук, что даже мы, ожидая этого взрыва, сильно вздрогнули от этого грохота.
— Ну и рвануло! — вырвалось у Николая. Издалека ещё доносились какие-то звуки; лязг, грохот, шипение пара. Но выстрелов пока не было слышно.
— Хватит. Давай драпать! — мы сгоряча пустились бегом, но вскоре так запыхались, что даже быстрым шагом уже не могли идти. На наше счастье, шоссе было совсем рядом. Остановились, прислушались, перебежали, и только уже удаляясь от шоссе, услышали вдалеке первые выстрелы.
— Будет теперь фрицам работы — буркнул Николай.
Я так и не понял, о какой работе он говорит: то ли о ликвидации последствий взрыва, то ли о репрессиях, какие посыплются на жителей ближайших хуторов Ионцевичи, Бояры, Лоси...
В этот раз мы не решились дневать в Сычевичах, а ушли на один из хуторов севернее. Спали мало, боясь, что до нас всё-таки доберутся. На другой день отправили из Сычевичей заслуживающего доверия знакомого, чтобы он привёз хотя бы первые данные о результатах взрыва. Уже сейчас не помню точных цифр, но об этом взрыве даже в 70-х годах вспоминали старики из близлежащих хуторов. Паровоз и большое количество вагонов оказались под откосом, так как взрывчатка была заложена на закруглении пути: Михеев знал своё дело.
После войны я много раз ездил по дороге Минск—Молодечно (сейчас там ходит пригородная электричка). И каждый раз, когда машинист объявлял: «Следующая остановка Бояры», я, не отрываясь, смотрел в окно на ту сторону, откуда мы с Михеевым подходили к «железке». Но местность с тех пор настолько изменилась, что я никак не мог определить, где же именно это было. Михеев наверняка бы узнал эти места, так как, скрываясь в Ионцевичах, видел их днём. Но мне, после войны, к сожалению, ни разу не удалось проехать с ним по этой дороге...
Вернувшись на базу, доложили обо всём Диме, он нас поздравил. У Михеева были планы об использовании других оставшихся снарядов, но Дима сказал, что сейчас не до этого. На нашу базу надвигалась гроза. Дима был предупреждён своей агентурой, что немцы в ближайшее время организуют очередную блокаду, и он внимательно следил за развитием событий, готовясь отойти из опасного места на время блокады на север ближе к партизанской столице Бегомлю. Правда, на это время рвались все связи с агентурой в Минске и других гарнизонах, рвались связи с группами, ушедшими на задания, которые могли вернуться как раз тогда, когда нас здесь не будет, и попасть в лапы к врагу, как это было с нашей группой при возвращении из пущи в конце 1942 года. То же самое грозило и другим нашим связным, особенно тем, что ушли в Минск. У Димы был хлопот полон рот, а тут ещё мы с Михеевым со своими планами.
Беда меньшего масштаба надвигалась и на меня. После «купания» в весеннем потоке, у меня начался фурункулёз. Чирьи сплошной полосой выскочили на пояснице и ниже. С каждым днём их становилось всё больше. Пропитанное гноем белье прилипало к телу, причиняя нестерпимую боль при движении. Боль не давала заснуть. Я мучился, но терпел.
Наш партизанский доктор Шура Долмат (Александра Титовна Долмат) не знала, как мне помочь. Лекарств никаких у нас не было, даже элементарного вазелина. Необходимо было витаминное питание, но где его взять весной, когда нет ещё никакой зелени. Наша кухня, кроме муки, крупы и картошки, тоже ничего не имела, даже соль была не всегда, а с мясом становилось всё труднее и труднее, А тут ещё и блокада!
Спасаясь от неё, на некоторое время мы перебрались в Валентиново. В соседней деревне разместился госпиталь отряда Лунина, отступивший туда в связи с блокадой. Но и там все лекарства ограничивались реванолем, который доставали у немцев через связных, да крепким самогоном вместо медицинского спирта. Шура Долмат возила меня туда несколько раз. Там мне делали переливание крови: из вены на руке брали кровь и вливали её в ягодицу. Но это практически тоже не помогало.
Беда моя начала перерастать в трагедию, когда нам пришлось срочно в большой спешке покидать Валентиново и двигаться дальше на север от всё приближающихся немецких частей, прочёсывающих местность. Я шёл вместе со всеми, но быстро начал отставать от спешащих людей. Боль всё усиливалась, и я с трудом волочил ноги. К счастью, одного меня не оставил мой знакомый ещё из пущи Женя Гущинский, с которым мы уже были в переделке осенью 1942 года, попав в блокаду, нарвались на засаду, а затем четверо суток в окружении немцев блуждали по заснеженному лесу.
Мы забрели с ним в какую-то хату, посидели, отдохнули, нас покормили, затем было двинулись догонять нашу колонну, но вскоре поняли, что ночью мы их не догоним, а маршрута движения мы не знали (знал, наверное, только Дима). Повернули обратно, и с помощью Жени, я дотянул до Валентиново. К моему счастью, туда пришёл один из наших отрядов, командовал которым Александр Тюрин; ему, видимо, был известен маршрут Димы, и мы вместе с отрядом Тюрина начали продвигаться в сторону уже знакомой нам деревни Людвиново. С большим трудом, превозмогая боль, я шёл, Женя, как мог, поддерживал меня. Только благодаря ему, я снова не отстал, да и отряд продвигался не в такой спешке, как отходил Дима. В Людвиново мы не заходили, опасаясь засады, и расположились в лесу, недалеко от деревни. Немцы, даже во время прочёсок лесов, когда они имели абсолютное превосходство в силах, никогда не ночевали в лесу, всегда останавливаясь в какой-либо деревне.
Чуть живой и от усталости, и от боли, сидя под деревом, я задремал, да и другие, кроме командиров, дремали. Разбудил меня грохот недалёких разрывов и стрельба. Все вскочили, растерялись. Чуть не дошло до паники, но когда поняли, что из миномётов обстреливают соседний участок леса, и пальба идёт там же, начали в ночной темноте отдаляться от этого опасного места. Кого там немцы накрыли, мы не знали.
Не в состоянии уже вспомнить все подробности этой страшной ночи, но кажется на другой день мы соединились с колонной Димы. Нас с Женей считали уже погибшими или попавшими в руки немцев. Впоследствии мне доверительно передали, что Дима грозился нас расстрелять, как это когда-то делал Батя (Никто не должен отставать на марше! Живой!), когда узнал, что мы пропали. Когда же ему доложили, что я болен, а Женя не хотел меня бросить, он весьма быстро ссадил кого-то с лошади и велел отдать её мне. Дальше я ехал верхом.
Но наша пропажа была полубедой. Настоящей же бедой была пропажа нашей радистки Симы Левиной вместе с рацией «Северок», с шифрами и т.п.
Уже позднее я узнал, что, когда мы так поспешно отходили из Валентиново, Дима приказал одному из командиров групп взять на себя охрану радистов (уже не помню кому конкретно это было поручено). Сима, которую на базе все опекали и как радистку, и как красивую девушку, была этим избалована, кроме базы, она нигде не бывала и, видимо, считала, что ничего страшного в партизанской жизни, которую она фактически не знала, находясь на базе, не бывает, и с ней не может быть. Ей, вероятно, показалось, что ни командир группы, назначенный для охраны радистов, ни члены группы храбростью не отличаются, а может, просто её охватил безотчётный страх, когда пришлось ночевать в тёмном лесу, а кругом гремели выстрелы и очереди и ежеминутно взлетали зловещие ракеты. У немцев и патронов и ракет было предостаточно, и, занимая на ночь какую-либо деревню, они всю ночь стреляли по «партизанам», которые им мерещились за каждым кустиком, и освещали местность ракетами.
Поэтому она, узнав из каких-то источников, что буквально рядом в лесу находится отряд Сашки Тюрина, — а она была в него влюблена, — решила, что там ей будет куда безопаснее, и ночью, никого не предупредив, самостоятельно ушла к Тюрину, захватив, естественно, и «Северок» со всем хозяйством. В лесу она заплуталась (дело было ночью), ушла в другую сторону и попала к немцам.
Обнаружив пропажу радистки, ребята из группы охраны бросились разыскивать её. Но что найдёшь ночью в лесу? Симу не нашли, а нашли... немецкий дозор. Те открыли огонь, наши поспешно ретировались, но без стрелянины с обеих сторон не обошлось. Тогда немцы открыли огонь из минометов, да и патронов не жалели. Именно эта стрельба и разрывы мин и разбудили нас прошлой ночью в лесу. Дима приказал не ввязываться в бой и уходить.
Что стало с Симой, никто не знал. Но при первой же возможности Москве было сообщено о случившемся (Сима не была единственной радисткой у нас), и командование было поставлено в известность, что немцы могут организовать радиоигру руками Симы. Ведь не из каждой женщины может выйти Зоя Космодемьянская!
Когда мы уже достаточно далеко оставили места, связанные с тяжёлыми событиями прошедшей ночи, и вырвались из немецкой блокады, наша многочисленная колонна растянулась на добрых две сотни метров на дорогах Бегомльского района. Сюда немцы почти всю войну так и не могли проникнуть, здесь действовал партизанский аэродром, через который осуществлялась связь с Москвой, вывоз раненых, снабжение боеприпасами. Здесь почти безопасно можно было передвигаться днём, но было очень плохо с продовольствием, так как такое большое сосредоточение партизан население было уже не в состоянии прокормить.
Дима, ехавший тоже верхом, подъехал ко мне, мы немного обогнали колонну — он хотел поговорить со мной без свидетелей. Разговор был не из приятных. Он сказал, что за такие поступки при Бате нам с Гущинским бы не сдобровать — Батя был крут на расправу, да и времена были в 1941 году другие: отставший мог бы выдать всех. Немцы умели вытягивать всё из тех, кто попадал в их лапы. Как бы оправдываясь, он выразил сожаление, что ему никто не доложил о моей болезни, недобрым словом вспомнил Шуру Долмат, нашего доктора, и предупредил, чтобы впредь таких случаев не было. Это окончательно вывело меня из равновесия. Разве я виноват во всём случившемся? Обиду и злость я уже не мог сдержать и наговорил Диме сгоряча, чего пожалуй и не стоило говорить, ставя ему в вину и то, что мы всё время отступаем, что не сделали ни одной попытки встретить немцев из засады, чтобы и они почувствовали, что и их ожидает возмездие, что безнаказанно шастать по деревням и мордовать ни в чём не повинных людей им даром не пройдёт... А то мы всё уходим и уходим.
Дима долго объяснял мне, что у нас боеприпасов хватит не больше, чем на десять минут хорошего боя, поэтому ввязываться в бой нам никак нельзя, что перед нами совсем другая задача: разведка и ещё раз разведка, что ему удалось создать хорошую агентурную сеть на ближайших железнодорожных станциях, а главное в Минске, что передача всех данных разведки в Москву — наша главная задача. И что диверсии на дорогах, на которые он посылает людей, в том числе и нас с Михеевым, кроме своей основной цели, служат ещё и для того, чтобы маскировать основную разведывательную деятельность нашего отряда, так как такое подразделение, как наше, не занимающееся диверсионной деятельностью и уклоняющееся от вооружённых столкновений, сразу бы привлекло внимание вражеского командования, и оно приложило бы все старания, чтобы выяснить задачи такого подразделения.
Этот нелицеприятный разговор затянулся почти на полчаса. И если до него я был в глазах Димы рядовым бойцом, каких кругом было много, то после этого разговора он стал как-то выделять меня среди остальных, при встречах интересовался моим здоровьем, и вообще только с этого времени он знал, что есть в отряде такой ершистый Волков, с которым следует считаться, как и со «старичками», т.е. теми, кто в отряде с осени сорок первого или с весны сорок второго.
Поголодав в полном смысле этого слова в таком относительно безопасном районе — за эти несколько дней ним на пропитание выделили одного старого, старого бычка, мясо которого всё равно никто не мог разжевать — мы возвратились в Людвиново. Немцы оставили по себе неизгладимые раны: опять почти в каждой хате слышался вой по убитым, угнанным в Германию, изувеченным. Да и хат некоторых недосчитались — сгорели. Но жизнь есть жизнь, и все впряглись в свои каждодневные занятия.
Мы ещё не возвратились на свою базу в районе Бобров, а Дима уже всюду снова рассылал людей, чтобы восстановить прежние связи, найти уцелевших от блокады связных, разыскать новых взамен выбывших. Встал вопрос также о возобновлении взрывов на железных дорогах, которые практически прекратились в связи с блокадой. Дима стал собирать группу для отправки на участок дороги Молодечно—Минск. Михеев к этому времени перешёл в отряд Лунина вместе со своим другом Андреем Никитиным.
Выбор Димы пал на Аминева и его группу. Аминев Михаил Николаевич, татарин по национальности, был в отряде ещё со времён Бати, имел богатый партизанский опыт, и Дима возлагал на него большие надежды. С Аминевым, как и с другими на базе, я был к этому времени уже достаточно знаком. Ему было известно, что я знаю подходы к дороге на участке Минск—Молодечно между Радошковичами и Красным, знал также, что у Михеева я перенял все тонкости минирования и изготовления «рَапеды». У меня же было желание, даже необходимость, вырваться на деревенские харчи, хотя бы с минимумом витаминов, чтобы покончить с фурункулёзом. Наш «костоправ» Шура Долмат была в отчаянии от своего бессилия чем-нибудь мне помочь.
Всё это послужило причиной нашего появления с Аминевым у Димы. Последний сначала и слышать не хотел, чтобы меня в таком состоянии, больного, отправить на «железку», но в конце концов согласился, выслушав наши (особенно мои) убедительные просьбы.
Захватив взрывчатку и всё остальное, мы раздобыли подводу (в основном, из-за меня) и отправились в район Бобров. Было начало лета, уже высоко поднялась рожь, стояли тёплые дни, и мы спокойно доехали до деревни Козлевщина. Один из нашей группы Василь Байков (Исай Николаевич — погиб после партизанской эпопеи в Восточной Пруссии), молодой парень лет восемнадцати был из этой деревни, где у него осталась мать и двое сестёр. Он очень волновался: живы ли они после блокады. Аминев и Кузяев Захар (Захар Алижанович), оба из татар, неразлучные друзья имели в этой деревне своих подружек. Все были весьма обрадованы тем, что деревня мало пострадала, и все живы и здоровы. Двое других из нашей группы Саша Сердюк и Степан Попов (Степан Андреевич) отправились к своим знакомым в соседние деревни.
Меня, не имеющего близких знакомых в этой деревне, Байков пригласил к себе, и я провёл приятный вечер в его семье, более коротко познакомившись с одной из его сестёр — Федорой.
Хорошо выспавшись и отдохнув, на другой день мы отправились по хорошо знакомой лесной дороге на Манилы, оставив справа деревню Подворяне. Я старался изо всех сил, чтобы не отстать от товарищей, но это мне удавалось с трудом, и они, понимая всё, не оставляли меня. В Манилах отдохнули, подкрепились и отправились дальше на Загорцы и Сычевичи и где-то поздней ночью остановились на хуторе у Клюёв.
Только на другой день вечером, приготовив «рَапеду» отправились мы к «железке». Ночь, на наше несчастье, выдалась лунная. Почему «на несчастье», станет понятно из дальнейшего. Спокойно перешли шоссе Радошковичи—Красное и вскоре добрались до лощины в которой лежала насыпь дороги за маленьким ручейком. Место это было совсем недалеко от того, где мы с Михеевым ковырнули состав весной. Долго прислушивались к ночным звукам, но ничего подозрительного не заметили.
В тишине приблизились к ручью, окаймлённому кустами, перешли его и взлезли на насыпь. Было очень светло; мне показалось куда светлее, чем тогда, когда мы с Михеевым закапывали наши три снаряда. Отчаянно стучали наши сердца.
По заранее оговорённому плану двое из нас пошли один вправо, другой влево по путям, чтобы в случае чего предупредить о приближении патруля; я же занимался землёй, разгребая песок между шпалами. Увязанная «рَапеда» лежала рядом, шнур с капсюлями и проволока для крепления были за пазухой. Двое помогали мне, Аминев стоял наготове, наблюдая за уходящими.
Вдруг направленный вправо Байков Василь бегом возвратился к нам...
— Там немец лежит! — испуганно прошептал он.
— Сдурел! Тебе показалось!
— Пэвно лежит!
Все на мгновение прекратили свои дела и тревожно повернулись в ту сторону, откуда прибежал Вася... Оглушительный выстрел в упор именно оттуда разорвал ночную тишину и заставил нас присесть. Схватив «рَапеду», которую я, к счастью, ещё не успел уложить на место и засыпать, я скатился с насыпи вместе с остальными. Булькнула под ногами вода ручья, впереди лежало поле, чуть подымаясь к горизонту, где чернел лес. Бежали насколько только хватало сил, подгоняемые выстрелами. Они гремели уже не только оттуда, где Василь увидел немца, но и с других участков насыпи. Пули с противным визгом уносились вперёд над нашими головами. Голова при каждом выстреле втягивалась в плечи, а ноги молотили землю. Где-то сзади сбоку застучал пулемёт. Стрельба всё усиливалась, но уже становилось ясно, что стреляют, не видя цели, лишь бы стрелять.
Задыхающиеся, с пересохшими ртами, мокрые с головы до пят от собственного пота достигли мы, наконец, спасительного леса, оказавшегося узкой полоской деревьев. Пробежали его, сзади продолжали греметь выстрелы.
— Никого не задело? — на ходу спросил Аминев.
Никто не ответил, каждый хотел убедиться, все ли тут.
— Быстро, быстро за шоссе, а то отрежут! — снова подогнал Аминев, и мы шли, тяжело дыша: бежать уже никто не мог. Я продолжал на руках нести «рَапеду» — не было времени ни сунуть её в мешок, ни тем более закинуть его за плечи.
Вскоре пришлось остановиться. Силы покинули нас, нужно было хоть немного отдышаться. Выстрелы на дороге постепенно затихли, и опять воцарилась тишина. Мы слышали только тяжёлое дыхание друг друга. Скинув винтовку из-за спины — я забросил её туда, когда полез на насыпь с «рَапедой» руках — я, наконец, уложил её в мешок и закинул его за спину.
Чуть отдышавшись, мы, насколько быстро могли шагать наши ноги, двинулись к шоссе и вскоре пересекли его. До Сычевичей было ещё далеко, но все вздохнули с облегчением.
Усталые, в полном смысле повесив носы, брели мы к хуторам Боры. На душе было противно: задание не выполнили, чуть не погибли, что теперь делать? Я вспомнил, как легко и радостно нам было с Михеевым возвращаться после такого удачного взрыва почти на том же месте. Какая огромная разница! Как так получилось, что мы вышли прямо на засаду? Судя по стрельбе, засада там была не одна. Стреляли, насколько мы были в состоянии заметить, с разных мест на дороге. Может, ребята думают, что это я их так неудачно вывел?
Много всяких нерадостных мыслей промелькнуло, пока добрались мы до лесного хутора. Несмотря на усталость и бессонную ночь, не могли мы уснуть. Слишком взбудоражены были наши нервы всем случившимся. Перед каждым вставал вопрос: что дальше делать? Сделать ещё одну попытку, снова лезть под пули? Так ничего определённого и не придумав, постепенно заснули. Как всегда кто-то оставался дежурить.
Меня разбудил Аминев. С ним в хате, где мы спали, разговаривали несколько незнакомых мне партизан. Они оказались из отряда Лунина. Расспросив меня подробно, на каком участке дороги всё произошло, они сочувственно сообщили, что уже несколько дней (а точнее ночей) на разных участках дороги все их попытки минировать её кончаются также неудачами. Немецкая охрана сидит на дороге буквально через каждые сто метров, и остаться незамеченным ею практически невозможно. Чем вызвана такая повышенная бдительность — об этом можно было только гадать. Не солоно хлебавши, вернулись мы на базу. Как Дима разговаривал и в каком тоне, с докладывавшим ему Аминевым, я не знаю, но вышел Аминев из штабной землянки взъерошенный и красный.
— Нужны мне твои оправдания, как рыбе зонтик! Мне взрывы нужны! — передал он нам слова Димы. Видимо, не только этой фразой ограничился их разговор.
Случайно встретив меня в тот же день, Дима осведомился о состоянии моего здоровья и был удовлетворен ответом, что мне стало лучше. Отчего мне стало лучше я и сам не знал; как-то не было времени заниматься своими болячками, когда над головой воют пули и нужно мчаться до полного изнеможения. Конечно, сказывалась и деревенская еда. Тем не менее Шура Долмат (наверное, не без указания Димы) отправила меня в наш временный «госпиталь» в деревне Вепраты, где было несколько человек легко раненых во время блокады и других больных. Обстановка после блокады была спокойная и позволяла нам такую роскошь, как несколько дней ничегонеделанья в деревенских условиях и на более хороших харчах.

 Газета «Известия» №247 от 3 сентября 1988 года.
Газета «Известия» №247 от 3 сентября 1988 года.

 «История и жизнь» №17, приложение к газете ПНР «Жице Варшавы» от 2 сентября 1988 г.
«История и жизнь» №17, приложение к газете ПНР «Жице Варшавы» от 2 сентября 1988 г.