В КОНЦЕ СОРОК ТРЕТЬЕГО
В октябре 1943 года немецкое командование бросило значительные силы против партизан, дислоцирующихся северо-западнее озера Нарочь. Советскому командованию нужны были сведения, какие части брошены туда и откуда они сняты. Оно поставило задачу разведуправлению выяснить эти вопросы. Радиограмма из Москвы требовала номера частей. Срочно нужно было брать «языка» из брошенных туда немецких подразделений. Выполнять эту задачу поручили нашей группе учитывая то, то нам не откажет в помощи капитан Черкасов, люди которого знают те районы.
Мы срочно выехали, уже знакомым путём добрались до железной дороги Молодечно—Полоцк, перешли её (в который уже раз!) и были приветливо встречены Василием Алексеевичем. Мы ничуть не сомневались в его помощи, он выделил одного из своих опытных бойцов, хорошо знавшего интересующие нас района. Приходилось спешить, так как немцы уже снимали блокаду с той местности. Приходилось ехать не только ночами, но иногда прихватывать и дневное время, если обстановка позволяла. Проводник вёз нас путями ему хорошо известными.
Но как мы не спешили, немцы свёртывали свои части быстрее нас, а за машинами угнаться на деревенских клячах, да ещё только ночами, мы не могли. Когда достигали очередного населённого пункта, оказывалось, что немцы буквально вчера его оставили, сделав своё чёрное дело. Так мы в конце концов оказались в непосредственной близости от станции Лынтупы, где нам сообщили, что опять-таки вчера последние немецкие части погрузились в эшелоны и уехали.
Нам ничего не оставалось, как возвращаться восвояси ни с чем.
Из этого похода в памяти сохранился только один забавный эпизод. В одной из деревень уже поздно ночью нарвались мы на... свадьбу («вясэле» по-белорусски). И даже в такое трагическое время на Беларуси продолжали играть свадьбы!
Наше появление вызвало замешательство: все с опаской поглядывали на наше автоматическое оружие (пять автоматов!). Срочно освободили места за столом, мы, даже не присаживаясь, подняли только «келишки» с мутноватой жидкостью за счастье жениха и невесты, затем наполнили ещё раз и заставили всех выпить «За Родину, за Сталина! За нашу победу!» После этого, закинув автоматы за спину, участвовали в танцах, как могли, танцуя, болтали с панёнками, а сами высматривали... сапоги на молодых и пожилых гостях. Обувь всегда была самым слабым звеном в нашей экипировке. Из Москвы её почти не присылали, а если и присылали несколько пар, то они расходились по начальству. Нам же приходилось доставать её путём «обмена» наших разбитых опорок, на сапоги у местных жителей. Но в сорок третьем уже никто из них сапог не носил: либо партизаны забрали, либо они были далеко запрятаны до лучших времён.
А тут сразу столько добротных модных по западным вкусам, начищенных до блеска таких желанных «бутов». Правда, не очень-то мы любили эти «модные» с узким голенищем сапоги, из которых приходилось выдирать заднюю стойку, не позволяющую сминаться голенищу в «гармошку», так привычную в наших сапогах. Как известно, «гармошка» позволяет использовать сапог даже для раздувания самовара; к сожалению, в Западной Белоруссии об этом способе никто не имел понятия, так как там не было и самоваров.
Для «обмена» вызывали облюбованные сапоги, то есть их хозяина, во двор, где и производили «обмен» по возможности без шума, действуя методами «убеждений», что нам сапоги нужнее, а наши они могут починить и пользоваться ими до конца войны.
Всем ли удалось тогда найти подходящие «буты», я уже не помню, но устраиваясь на дневку в не так отдалённых от места свадьбы хуторах, сразу же пришлось искать «шевца» (сапожника) для приведения сапог к «рассейскому знаменателю». Уже вскоре все на хуторах знали, что произошло на свадьбе, а самое главное — дошёл слух, что среди «разутых» на свадьбе оказалось двое полицаев, которым пришлось понести не только материальный ущерб — лишиться сапог, но потерпеть и моральный урон — пить вместе со всеми «за Родину, за Сталина».
Благополучно форсировав «железку» Молодечно—Полоцк, чувствовали себя уже почти дома: дорогу до Червяков, Кременца мы считали практически безопасной. Но суровая действительность и в этот раз напомнила нам о себе. Рассчитывали мы, как всегда в наших походах под Сморгонь, заехать в небольшую деревню Борки, где уже имели хороших знакомых. Но не доезжая до неё, наши возчики сообщили печальную новость: деревню Борки вместе с жителями спалили немцы в отместку за какую-то партизанскую операцию. Тёмной осенней ночью проехали мы через мёртвую деревню, вернее, через порядки чёрных кَоминов (так по-белорусски называется труба и печка, оставшиеся на месте сгоревшей хаты) не так давно стоявшей тут живописной деревни.
В мемориальном комплексе «Хатынь», среди других памятных сооружений, существует площадка, где каждой сожжённой фашистами деревне поставлен скромный памятник небольшая плита с названием деревни и района, в котором она находилась. Их много — этих скромных памятников людского горя и варварства изуверов. Долго мне пришлось читать горестные названия, переходя от одной плиты к другой, пока нашёл я плиту, посвящённую деревне Борки.
Была уже поздняя осень — конец октября 1943 года, когда наша группа, запасшись взрывчаткой (в том числе и магнитными минами), снова отправилась в уже ставший нам как бы родным район под Сморгонью. Больше мы уже не пытались искать туда более короткую дорогу и шли проторённым путём через Червяки, огибали Илию и в Пахомово переправлялись через Вилию.
Уже не доходя до Пахомово, нам сообщили, что соседняя большая деревня Сосенка вся занята очень странными партизанами: все в немецкой форме, хорошо вооружены, имеют артиллерию и миномёты, много пулемётов, и все не советские. До нас уже доходили слухи, что большая воинская часть (говорили чуть ли не про дивизию) власовцев перешла на сторону партизан и воюет с немцами, но это было далеко от нас, где-то в районе Крулевщизны, куда наши группы не проникали из-за отдалённости. Из осторожности мы не заходили ни в Сосенку, ни в Рабунь, а из Пахомово сразу направились к знакомому участку железной дороги Молодечно—Полоцк, где мы уже много раз более или менее удачно её переходили. Осенняя темнота помогла нам беспрепятственно перебраться на ту сторону дороги, и мы продолжили свой путь, как всегда полями обходя Любань.
В какой-то деревушке, может быть, хуторе, куда мы зашли буквально только передохнуть и утолить жажду, к нам вдруг прибежали из соседней хаты и сообщили, что у них сидит немец, очень странный, чисто говорит по-русски, но одет во всё немецкое. С некоторой опаской, держа наготове автоматы, мы ворвались в хату.
Вскочивший перед нами «немец» был без ботинка на одной ноге, винтовка его стояла в углу. В первую минуту не обратили внимания на красную ленту, нашитую на его немецкой пилотке, да её и видно было плохо в мерцающем свете лучины.
— Кто такой? Руки! — наставили мы на него свои автоматы.
— Я... Мы... родионовцы — едва выдавил от испуга парень в немецкой форме. Об родионовцах мы ещё ничего не знали и в недоумении смотрели друг на друга.
— Вот ногу сбил до крови... Наши пошли громить Вилейку, а мне пришлось остаться.
Как бы в подтверждение его слов через открытую дверь хаты стали явственно проникать отзвуки далёкой канонады. Выскочили на двор и с жадностью прислушивались к орудийным раскатам и пулемётным очередям, доносившимся со стороны Вилейки. Бой разгорался, вскоре зарево осветило ту сторону неба.
Мы вернулись в хату и стали расспрашивать фальшивого немца, что это за родионовцы и откуда они взялись. Немного успокоившись, он уже без заиканий сообщил, что в лагерях военнопленных был завербован в РОА («Русская освободительная армия»), в которую многие пошли, чтобы не умереть с голода зимой 41—42 годов. Так же, как «украинцев», немцы их обмундировали, вооружили и использовали для борьбы с партизанами в немецком тылу. На фронт не допускали, боясь их перехода на сторону своих. В августе 1943 года под командованием Родионова они перешли на сторону партизан, разгромили сильные немецкие гарнизоны в Докшицах, Крулевщизне, ряд мелких гарнизонов, пользуясь своим превосходством в числе и вооружении, а сегодня — 31 октября очередь дошла до Вилейки.
Мы с удивлением рассматривали этого русского парня, в немецкой форме, отличающейся только ромбовидной трёхцветной бело-сине-красной нашивкой на рукаве с тремя русскими буквами РОА. Чего только судьба не уготовила нашему поколению!
Страх перед голодной смертью загонял людей даже в ненавистную немецкую форму. В лагери «кригсгефанген» приезжали эмиссары Власова с его «Манифестом» и агитировали истерзанных, находящихся на краю голодной смерти советских солдат о вступлении в «Русскую, освободительную армию».
— От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный — изменник в глазах вашей власти, — говорили агитаторы. И показывали московские газеты с приказами,
речами.![]()
Действительно «... во второй половине августа 1941 года в войсках действующей армии был объявлен пресловутый приказ Ставки №270 от 16 августа. Всему личному составу объявлялось, что командиры и политработники, оказавшиеся в плену, будут считаться дезертирами, а их семьи подлежат аресту и выселению. В приказе так же предписывалось лишать семьи пленных красноармейцев какой-либо помощи (мои родители тоже были лишены её, после получения справки о моей «пропаже без вести»). Поскольку, по вине стратегического командования — читай по вине Сталина — в летних кампаниях 1941—1942 годов в германском плену оказалось несколько миллионов советских воинов, изуверские требования приказа №270
фактически распространялись на миллионы семей военнослужащих».![]()
![]()
Не мудрено, что чуть живые от голода, холода, тифа заключённые в лагере решались вступить в эту армию, чтобы выжить, хотя далеко не все верили власовским эмиссарам. Умирающему от голода безразлично, что будет завтра, ему хочется есть сегодня.
Большинство из них лелеяли мечту получить оружие и вырваться на свободу, но лишь небольшая их часть смогли её осуществить. А те, что не полегли ни под партизанскими, ни под немецкими пулями, сгнили после войны на далёких Колыме, Воркуте и других печально известных закоулках с клеймом «изменников Родины», или рассеялись по всему миру, влача чаще всего жалкое существование.
Странное чувство вызвала у нас у всех эта встреча. Каждый думал:
— Вчера они стреляли в нас, а сегодня в наших врагов. И как после войны и кому разбираться: в какую сторону выстрелов было больше и по какую сторону больше легло народа в их результате? Ох, будет неразбериха после этой войны!
Смутное тогда у нас было представление о том, что будет после войны.
Только в 1971 году, купив книгу «Партизаны Вилейщины»![]()
![]()
![]() , я встретил первые печатные сведения о Родионове и родионовцах.
, я встретил первые печатные сведения о Родионове и родионовцах.
Бригада из двух полков и частей обслуживания, которой командовал подполковник Гиль-Родионов была создана германским командованием главным образом из советских военнопленных весной 1942 года для борьбы против партизан, называлась «1—я русская национальная бригада» и была хорошо вооружена. 16 августа 1943 года бригада в полном составе перешла на сторону партизан и была переименована в «Первую антифашистскую партизанскую бригаду» во главе с Владимиром Владимировичем Гиль—Родионовым. Комиссаром бригады Центральным Комитетом КП(б) был утвержден Иван Матвеевич Тимчук, впоследствии Герой Советского Союза. Бригада летом и осенью 1943 года разгромила вражеские гарнизоны в Докшицах, Крулевщизне, Илие, Ободовцах, Вилейке, пронеслась огненным вихрем по гарнизонам Вилейщины. Это был ощутимый удар, который фашисты долго не могли забыть.
Как и многие из партизан, Гиль-Родионов не дожил до победы. Погиб во время последней блокады в мае 1944 года.
Вспоминая всё пережитое после войны, то презрительное отношение чиновников всех рангов к нам, бывшим военнопленным, закрадывается и такая, прямо скажем, абсурдная, если не кощунственная мысль о Родионове и родионовцах: «И лучше что погибли». А то бы прокляли всё на свете, столкнувшись со всеми «прелестями» бериевских лагерей, в которые угодили практически все наши пленные, освобождаемые из немецких концентрационных лагерей по мере углубления советских войск на территорию Польши, Австрии, Германии. Тем более, что родионовцы были не просто пленными, а служили в РОА. И если «особисты» (сотрудники особых отделов) партизанских отрядов и бригад, часто испытавшие на себе все тяготы нахождения в немецких лагерях военнопленных, относились более или менее терпимо к бывшим военнопленным и даже к бывшим власовцам из РОА и «украинцам», посылая их для проверки на самые опасные задания, где они нередко кровью искупали свою вину, то бериевская машина уничтожения «изменников Родины» действовала на повышенных оборотах, и лишь немногие остались не раздавленные ею. Как известно, даже героических защитников Брестской крепости писателю Смирнову удалось найти на Колыме и в других не менее одиозных местах. И их не минула тяжёлая рука первого приспешника «родного и любимого».
Увы, до сих пор не встретилось мне никаких сведений, кроме вышеупомянутых, о родионовцах и Гиль—Родионове. Не нашлось никого из участников этой героической эпопеи перехода целой бригады из двух полков на сторону партизан, кто бы мог поделиться своими воспоминаниями об этом неординарном событии Великой Отечественной войны. Видимо, мало, а может и никого (последнее маловероятно) не осталось из его организаторов — не мог же один Гиль—Родионов подготовить этот переход, значит была подпольная организация патриотов, сумевшая сагитировать столько народа, зажечь его на борьбу. О ней тоже ничего не известно. Или все те из родионовцев, кто пережил войну, после неё были уничтожены уже за колючей проволокой сталинских застенков?
На другой день после нападения родионовцев на Вилейку (разгромить гарнизон полностью им не удалось — к немцам подоспело подкрепление из Молодечно) мы уже были на нашей «земле обетованной», то есть в Ордее. Здесь всё шло без изменений, за исключением того, что наши знакомые Михайлюк и Черакаев начали создавать на базе местной молодежи партизанский отряд имени Фрунзе, один из отрядов уже бригады им.Будённого, которой командовал, уже в звании майора, наш добрый знакомый — Василий Алексеевич Черкасов.
В конце 1943 года многие отряды переросли в партизанские бригады за счёт притока деревенской молодёжи, а кое-где её и просто мобилизовали в партизанскую армию.
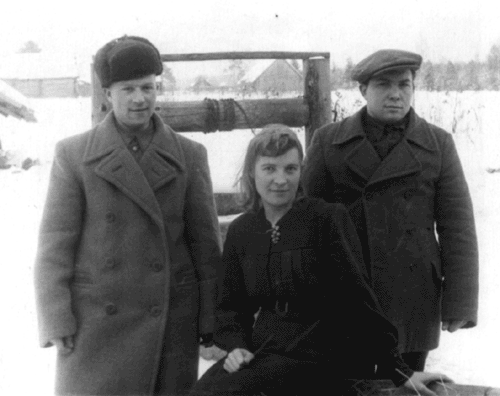
Февраль 1951 года, деревня Трилесина под Сморгонью
(слева-напрво)
Мартишонок Юзеф Константинрвич
Мартишонок Ядвига Константиновна
...неизвестный...
Из Ордеи нам пришлось перебираться в Трилесину, где была спрятана наша лодка — единственное средство сообщения через Вилию в это позднее осеннее время. В Трилесине практически все жители были нам знакомы, как и в Ордее, но чаще всего мы квартировали у Кастусихи, пожилой женщины, семью которой составляли две дочери и два сына. Отца уже не было, а старшая дочь при нас летом вышла замуж и переехала в Завелье — деревню, лежащую рядом с Трилесиной. Младшая дочь — Ядя (Ядвига) была одних лет с нами, старший сын — Юзик (Юзеф) — несколько моложе её, а самый младший — Болюсь — тогда ещё пацан, которого почему-то все звали «ангельска хороба» (в переводе с польского — рахит). Фамилия у них была Мартишонок, но хозяйку — их мать — все в деревне звали только Кастусиха (по имени мужа: Кастуся — Константина). Ни одной жалобы, что ей приходится много готовить для нас, шестерых взрослых молодых мужчин — продукты, естественно, мы ей привозили — ни разу мы не слышали. И вообще, в её семье чувствовали мы себя, как в родном доме: столько домашнего тепла было в этой хате.
Хата её, как и почти все в деревне, расселённой на хутора, стояла под лесом, и вскоре нам пришлось в лесу, также оборудовать землянку на случай появления немцев, которые иногда из Сморгони и Клиденят, где одно время стояла на отдыхе какая-то немецкая часть, перебирались через реку за «яйками и шпеком». По старой памяти заходили мы также и к «Майоровым» девчонкам, которых постигло большое горе. Кто-то, видимо, донёс на их отца «Майора» — Игнася Савицкого, что он связан с партизанами. Немцы его схватили, держали в гестапо, видимо, сильно избивали, и по выходе из тюрьмы он вскоре умер. К сожалению, помочь ему чем-либо мы были не в состоянии, и его смерть оставила тяжёлый след в нашей памяти.
Обстановка в Белоруссии в конце 1943 года сильно изменилась. Приближалась Красная Армия, все чувствовали, что скоро она принесёт избавление от немецкой оккупации, и перед многими вставал вопрос: а что я сделал для изгнания чужеземцев? Резко усилилась тяга населения, особенно молодежи, в партизанские отряды, да и пожилые люди чувствовали, что надо помогать партизанам, чтобы быстрее изгнать ненавистных захватчиков.
Всё чаще получалось так, что уже не мы посылали кого-либо из деревенских жителей в Сморгонь, а наоборот, люди из Сморгони, Клиденят искали нас, приходя в Трилесину. Они предлагали свои услуги и помощь в выполнении и взрывов, и снабжения нас сведениями о результатах диверсий. Указывали самые уязвимые места немецкой охраны на дороге. Наши связи с тем берегом всё больше расширялись. Конечно, это было хорошо, но... но среди них могли оказаться и люди из гестапо, и это внушало определённые опасения не для нас, а для жителей той же Трилесины, в хатах которой и велись все переговоры с приходящими.
Вскоре у нас уже появился свой «актив» из жителей Клиденят, через которых мы могли получить сведения о всех, приходящих к нам с той стороны. Из этого актива хорошо помню: Савицкого Николая Иосифовича, уже немолодого, знающего многих, человека; Демидовича Виктора Викентьевича, тоже человека уже в годах, у которого было много знакомых, работающих на железной дороге; отчаянного парня наших лет — Броню Страшинского (Бронислав Иосифович) и тогда совсем ещё молодого, почти мальчишку — Демидовича Толю (Анатолий Семёнович).
Дошло до того, что наши знакомые вышли на немецкого кладовщика, в каптёрку которого стекалась вся взрывчатка, снятая немцами с железной дороги от неудачно поставленных партизанских мин. Этот немец оказался поляком из Силезии, присоединённой к Германии после образования Польши. Мобилизованный, как германский подданный, он не горел желанием воевать, и когда к нему обращались (польский язык он не забыл) с просьбой дать несколько шашек тола, якобы глушить рыбу, и добавляли к просьбе бутыль самогона, он пускал взрывчатку «налево», а что и кого ей будут глушить — на это он закрывал глаза.
И вообще, немцы, особенно тыловики и солдаты, и даже офицеры, как мы понимали из рассказов наших осведомителей, в конце 1943 года были скорее не солдатами, а торгашами, часто и просто мародёрами. Каждый из них старался как можно больше урвать для себя и для своих близких в далёкой Германии, чувствуя, то скоро Красная Армия выкинет их и из Белоруссии, как это уже случилось на Украине. Каждый из них жил сегодняшним днём, в страхе ожидая завтрашнего. За деньги, за сало, даже за самогон они не стеснялись продавать всё, вплоть до оружия.
Именно таким путём через перекупщиков мне достался за четыреста марок новенький длинноствольный парабеллум, и я часто ощущал на себе завистливые взгляды, когда появлялся с ним на базе, не говоря уже о ребятах из других отрядов.
Небезынтересно будет вспомнить также о том, что за деньги у немцев была «выкуплена» наша радистка Сима, которая, видимо, для немецкого командования к тому времени уже не представляла большого интереса, так как была рядовой радисткой. В одно из своих возвращений из-под Сморгони нам сообщили, что в Мачулище находится Сима, хотя и под охраной. Мы на правах старослужащих преодолели барьер в виде молодого часового из одного нашего отряда и ворвались к Симе. Поговорили, ободрили, не вспоминая ни о чём, что ей пришлось перенести в лапах фашистов из-за своей самонадеянности, приведшей к трагедии.
Насколько я знаю, её отправили в Москву и судили. Ходили слухи, что она расстреляна. Но уже после войны кто-то мне рассказывал, что слухи не подтвердились, и что Симу видели там же в Москве.
Вот и такие передряги случались с людьми нашего несчастного поколения.
Этой же осенью под Сморгонью я, наконец, снова стал «зрячим», то есть достал очки. Случилось это так: в одно из посещений часового мастера в Рудне, к которому обращаться приходилось достаточно часто и не только по вопросам починки часов, он заметил, что я часто щурюсь, когда пытаюсь разглядеть что-либо вдали. Я подтвердил, что страдаю близорукостью и носил раньше очки. Спросив у меня какие я носил очки по диоптриям он в следующее посещение вручил мне подарок: пенсне с цепочкой.
Он рассказал, что когда наши отступали в 1941 году, он, работая в Залесье (может, в Засковичах), захватил из мастерской не только инструменты и оборудование для починки часов, но и все запасы оптики и оправ из соседней оптической мастерской — при приближении немцев мастерские остались бесхозные. Выразил также сожаление, почему я к нему не обратился за очками раньше. Его пенсне прослужило мне до первой вооружённой стычки. В ней я его потерял. Попросил мастера сделать мне обычные очки с заушинами, которые и служили мне вплоть до 1944 года, до освобождения Белоруссии.
Будучи один из нашей группы в очках, вскоре получил у местных жителей очень характерное прозвище — окулярник (по-польски очки — окуляры), под которым меня помнили ещё долго и после войны.
Привезённые нами магнитные мины наши помощники из числа работающих на железной дороге «прилепляли», как правило, к цистернам с горючим, и далеко от Сморгони вдруг вспыхивал пожар часто на перегоне между станциями, и немцы ломали себе голову, почему он возник, и кто в нём виноват. Только через несколько дней доходили до нас сведения о неожиданных пожарах и взрывах цистерн, об авариях с тендерами паровозов. Оказывается, наши бойцы «невидимого фронта» умудрялись прикреплять мины даже на тендер паровоза, хотя и машинист и его помощник с него оба, как правило, не отлучались, не говоря уже о вооружённой охране.
К сожалению, магнитных мин у нас было очень мало, и они быстро расходились. Даже для покушения на Кубе в отряде в тот момент не было ни одной мины, и для Осиповой их пришлось доставать экстренно в другом отряде, что оперативно обеспечил Петя Трошков. Естественно, не одни мы выполняли диверсии с применением магнитных мин. Возможно немцы обнаружили причину неожиданных пожаров во время следования поезда, то есть сняли и обезвредили какую-то из неразорвавшихся мин; может, их лазутчики, от проникновения которых не был гарантирован ни один отряд, донесли о них своим хозяевам, но теперь они вынуждены были тщательно осматривать каждый состав, обращая особое внимание на цистерны, о чём докладывали наши осведомители из числа работающих на станции Сморгонь. Увеличилось также число охранников эшелонов. Всё это не только замедляло продвижение и так едва ползущих, особенно ночью, поездов, но ещё требовало и дополнительных солдат, которых противнику неоткуда было уже взять.
Продолжали мы и обычные взрывы движущихся составов, выполняя их чаще руками новых местных помощников, горящих желанием насолить врагу любым способом. Постепенно мы превращались из подрывников в инструкторов и обучающих взрывному делу — столько появилось добровольцев на эту опасную работу.
Зашевелились и полицаи, чувствуя, что и им придётся отвечать за все преступления, совершённые их «работодателями». Те из них, руки которых ещё не были обагрены кровью своих соотечественников и к которым ещё не прилипла кличка «душегубов», искали связи с партизанами через своих родственников в деревнях, где мы часто бывали.
Возвращаясь как-то с обычной продуктовой операции из-под Жодишек, мы не успели до рассвета вернуться в Трилесину и вынуждены были остановиться дневать на хуторе где-то недалеко от Чернят. Место было совсем не подходящее для дневки (леса близко не было), но уже рассвело, и ехать дальше было ещё опаснее.
Хозяев хутора аж в дрожь бросило, когда мы им сказали, что будем у них целый день до вечера. Мы были весьма удивлены такой реакцией на наше присутствие. Что тут такая опасная зона? У хозяйки буквально руки тряслись. Мы тоже забеспокоились. Но, вопреки всем страхам, день прошёл без происшествий, и только к вечеру, когда наши хозяева почувствовали, что опасность им уже не грозит, стала ясна причина их боязни.
Хозяин попросил меня выйти из хаты, чтобы поговорить, как оказалось, о своём сыне. Обругав его и дурнем и гультаём (лентяем), он виновато сообщил мне, что сын у него «полициянт» (полицейский по-польски) и служит «на постерунку» в Войстоме. По молодости, по дурости, вместо того, чтобы обрабатывать свои морги (морг — 0,56 га) пошёл в полициянты, а теперь поумнел и понял, что хорошо это не кончится, и просил отца помочь связаться с партизанами. Сообщил также, что и другие его коллеги по постерунку, тоже ищут выход на партизан и боятся расплаты, когда придёт Красная Армия.
Что я мог ему посоветовать? Сказать прямо, что в Ордее Михайлюком формируется новый партизанский отряд, было бы неосмотрительно. Сообщив, что мы издалека и здесь только проездом, посоветовал ему поискать родственников или знакомых из деревень в лесах за Колпеей, где вероятность встретить партизан больше, чем тут.
Когда вечером мы уезжали, хозяйка, весь день дрожавшая от страха, окрестив нас, даже пожелала:
— Дай вам бог здровя!
Как правило, семьи полицаев с появлением партизан удирали в местечки под защиту немцев и полиции, а всё их хозяйство чаще всего партизанами предавалось огню.
Нашу монотонную и скучную жизнь — разве это жизнь: бессонные ночи и одурманивающий сон днём, прерываемый дежурством — кто-то должен же не спать — иногда украшали и развлечения. Молодёжи в деревне было достаточно, и парни, иногда по субботам просили нас привезти «музыку», то есть музыкантов, которые, насколько помню, жили в Рудне. Они знали, что партизанам те не откажут.
Музыканты — два-три человека, вооружённые цимбалами, скрипкой, бубном, действительно нам никогда не отказывали. Вечеринка устраивалась, как правило, в самой большой хате на опушке леса. Танцевали вальсы, танго, оберек (польский народный танец) и другие, но самым любимым танцем молодежи, да и не только молодежи, конечно же, была «полька». Причём в Белоруссии скорость, с какой вращаются пары в этом танце так велика, что у нас без привычки сразу начинала кружиться голова, и приходилось бросать танец к неподдельному удивлению и явному неудовольствию партнёрши. В шутку мы называли польку «сто сорок четыре оборота в минуту».
Самые же кульминационные мгновения вечеринки наступали когда музыканты объявляли «польку для резерва». В этом танце могли участвовать только супружеские пары, независимо от возраста. Молодежь расступалась по сторонам на круг выходили часто совсем пожилые люди и даже старики со своими старушками. Музыканты, зная все тонкости этого танца — соревнования, начинали в медленном темпе, постепенно убыстряя и убыстряя его. Через несколько минут перед глазами уже кружился дикий вихрь танцующих с топотом и залихватскими выкриками в такт музыке. Из круга танцующих пара за парой отходили те, кто уже не в состоянии были поспевать за искромётной мелодией, а музыканты, наоборот, подгоняемые возгласами окружающей молодежи, всё взвинчивали темп.
Когда оставалась одна пара, крутящаяся в бешеном вихре, все с удивлением обнаруживали, что победу в этом танцевальном соперничестве одерживал тщедушный старичок со своей старушкой. Им бурно аплодировали и поздравляли.
После вечеринки и угощения музыкантов и выпивкой, и закуской, отвозили их домой, К этому времени мы обзавелись парой отличных жеребцов — один буланый, другой гнедой, и подрессоренным весьма вместительным экипажем, реквизированным в каком-то панском имении за железной дорогой под местечком Крево. Экипаж оказался необычайно крепким и прослужил нашему отряду вплоть до соединения с частями Красной Армии в 1944 году.
Опять сравнительно быстро была израсходована вся принесённая взрывчатка, и нам нужно было либо отправляться на базу, либо что-то придумывать для продолжения железнодорожных диверсий. Дорожный мастер, руководящий бригадой рабочих, ремонтирующих пути (увы, фамилию не помню), предложил нам свою помощь, уверяя, что и без взрывчатки, без всякого взрыва можно пускать поезда под откос. Схема его была необычайно проста. Днём в конце работы бригады они на определённом стыке пути оставляют минимум ершей (у немцев рельсы к шпалам крепились ввинчивающимися в дерево шпал ершами, в отличие от костылей, забиваемых в шпалы на дорогах СССР), вывинчивая большую их часть, но так, чтобы поезда могли следовать по рельсам, удерживаемым остающимися ершами.
Ночью уже наша «бригада», захватив у бригадира необходимые инструменты, которые он предусмотрительно оставит на видном месте у хаты (инструменты эти настолько тяжелы и громоздки, что никто их на ночь не убирал, не прятал и не закрывал), отправлялась на подготовленный участок, вывинчивала оставшиеся ерши, разъединяла стык рельсов и отгибала один рельс вовнутрь так, чтобы следующий по этой колее поезд стягивался отогнутым рельсом на соседний путь. При этом разрушались и выходили из строя обе колеи, и движение прекращалось в обе стороны, не считая искалеченных вагонов, стягиваемых на соседний путь, а порою и паровоза.
Конечно, это было сложнее, чем подложить заряд взрывчатки, требовало больше времени, легко обнаруживалось патрулем даже в ночной темноте. Тем не менее несколько таких «взрывов» было нами осуществлено с самыми плачевными для врага последствиями.
О существовании группы партизан, во главе которой стоит татарин по национальности сморгонское начальство, видимо, хорошо знало. Не была исключена возможность, что в той же Трилесине или Ордее действовал тайный осведомитель немецкой службы безопасности или гестапо. Да и история с фотографом, появившимся в сентябре в Ордее, у которого мы сфотографировались, была слишком подозрительна. Я до сих пор не питаю никаких иллюзий, относительно того, что наши карточки не попали к немцам.
Иначе чем бы можно было объяснить появление в Трилесине двух никому неизвестных «ходоков», разыскивающих партизан. Естественно, они сразу вышли на нашу группу, так как других партизан в Трилесине в то время просто не было. Мужчина и женщина предстали перед нашими глазами. Он оказался по национальности татарином... Что это — простое совпадение? Она ничем особым не выделялась: смазливая бабенка, успевшая за время нахождения в Трилесине прижаться почти к каждому из нас. Как и с другими, мы сидели в хате Кастусихи вели переговоры, пытаясь побольше узнать о пришельцах, для чего потчевали их и закуской и выпивкой. «Гости» предложили свои услуги по сбору интересующих нас сведений в Минске, где якобы оба жили. Татарин часто переходил на татарский, который понимали только Аминев и Кузяев, но Аминев, после нескольких попыток «гостя» объясняться по-татарски, предупредил его, чтобы все разговоры велись только по-русски. Аминев, вообще, отличался от всех нас тем, что совершенно не употреблял спиртного, и, пока мы спаивали подозрительную парочку, внимательно слушал все их высказывания, которые могли быть не замечены нашими подхмелевшими головами.
Когда Степан Попов увёз их прокатиться на нашем «кабриолете» после застолья и подышать свежим воздухом соснового леса, и мы остались одни, я прямо сказал Аминеву, что парочка очень подозрительная, и лучше с ней не связываться. Решили назначить им свидание где-нибудь поближе к базе, когда мы туда возвратимся, а там уже пусть наше новое московское начальство с ними разбирается.
Указали им, как место будущей встречи, так хорошо мне известный хутор Клюи около Сычевичей и договорились о дне встречи. На другой день наши «гости» оставили нас с надеждой на скорую встречу.
Приближался конец 1943 года. Всё ближе и ближе подвигался фронт к белорусской земле, всё неувереннее чувствовали себя наши «лучшие друзья» — украинцы охранявшие железную дорогу и размещённые в казарме на Белой (хутора около «железки» недалеко от Сморгони). Много раз портили они нам настроение, открывая огонь по нашей группе и препятствуя установке взрывчатки. Злость на них у нас была превеликая.
И вдруг, чего мы никак не ожидали, приходит от них посланец в Трилесину и находит, естественно, нас. Только в конце 1943 года поняли они, наконец, всю бесперспективность своей службы у немцев, поняли, что народ не простит им измены, и стали искать связи с партизанами. Само собой, наши люди в Сморгони и на дороге вывели их на нас. Наши «лучшие друзья», столько раз открывавшие по нам огонь, теперь запросили «пардону» и выразили желание встать в ряды партизан. О чём они думали раньше, на что надеялись — было непонятно.
У каждого из нас в душе было «скромное» желание: пострелять этих гадов, из-за которых столько раз мы были на волоске от смерти. Но...
Пришлось подавить это желание. Каждый лишний человек с оружием в руках, готовый воевать против ненавистных пришельцев был в цене — сколько уже народа полегло. И сколько ещё ляжет!
Мы выразили своё согласие на переход их к нам и начали готовиться к отъезду на базу. Перед этим жители Окушковщины передали нам достаточно громоздкую и тяжёлую полевую радиостанцию Красной Армии, тщательно сохраняемую и скрываемую ими с момента ухода наших войск в 1941 году. Мы хотели её доставить на базу в распоряжение Александра Жарикова, нашего радиомастера. Полагали, что некоторые её детали могут ему пригодиться для ремонта «Северков». Кроме того, тому же Жарикову нужно было передать раздобытый нами отечественный приёмник, насколько помню, марки РПК, весьма похожий на приёмник БИ—234, который был у меня до войны. Надеялись, что его можно приспособить для приёма московских передач, чтобы не загружать этим «Северки». Перетащить всё это на руках через дорогу Молодечно—Полоцк было весьма трудно, особенно полевую радиостанцию. Переход к нам украинцев облегчал доставку всего этого груза на базу.
По заранее обусловленной договоренности в один из поздних ноябрьских вечеров в хату Кастусихи заявилась целая «армия», человек двадцать (точную цифру уже не могу вспомнить) вооружённых людей в зелёных шинелях и пилотках — обмундирование, кажется, литовской армии — с разнокалиберными винтовками. Привели их наши надёжные люди, которые не раз уже участвовали вместе с нами в диверсиях.
Что это не провокация, на 99 процентов мы были в этом уверены — не те времена! Но их количество! А нас всего шесть человек. И как можно им доверять, когда ещё вчера они готовы были по нам стрелять?
Много раз приходилось нам отчаянно рисковать — в тылу врага это каждодневный риск. Решили ещё раз рискнуть и привести эту «армию» в район расположения нашей базы. Не сдавать же их в совершенно чужой отряд? А там пусть особый отдел разбирается персонально с каждым. Нам же нужно было срочно покидать Трилесину, так как исчезновение такого большого количества «служак» всполошит немцев, и могут пострадать ни в чём неповинные жители деревни.
Настоящих украинцев среди них было скорее всего человека 3—4, остальные такие же украинцы, как я, например, татарин. Хорошо помню только одного из них: колоритную фигуру Романа Савицкого — толстого покладистого мужичка, в речи которого явно прослушивался украинский акцент. Из казармы они ушли все, пользуясь временной отлучкой их начальника, тоже украинца, служившего немцам не за страх, а за совесть, и которого все они ненавидели. Кто же любит начальство?
Погрузили всё имущество на нашу подрессоренную коляску впрягли красавцев буланого и гнедого и двинулись в ту же ночь на восток. Железную дорогу Молодечно-Полоцк решили переходить, если нужно будет, с боем. Нашли подходящее место с «трубой» под путями, в которую свободно проезжали крестьянские «колы» (телеги), но... увы, на совершенно открытой местности. Рассредоточили украинцев слева и справа примерно в двух сотнях метров от «трубы», дали им несколько оставшихся шашек тола с бикфордовыми шнурами, проинструктировали, как подрывать рельсы, и двинулись: мы на повозке — к «трубе», а наши новые бойцы слева и справа — к насыпи. Хотя немецкие охранные бункеры, где сидели, может быть, такие же украинцы были и недалеко от «трубы», нам удалось беспрепятственно доехать до неё; тут загремели взрывы слева и справа. Нахлестывая наших жеребцов, мы промчались через «трубу» и, грохоча колёсами по каменистой дороге, промываемой потоками воды, стали удаляться от «железки». Только когда мы были уже в полукилометре от насыпи, застучали пулемёты из ближайшего бункера, и пули засвистели где-то высоко над нашими головами. Охрана, напуганная, видимо, недавно проходившим очередным этапом «рельсовой войны», не сразу решилась открыть огонь, а только тогда, когда мы были уже далеко. Когда собрались все после перехода дороги, оказалось, что никто даже не ранен.
Утром, перебравшись через Вилию, мы были уже в Пахомово, оккупировав почти все хаты деревушки. Выставили охрану на обоих концах деревни. Сами мы, наша шестерка, по-прежнему спали не все, а кто-то из нас дежурил, да и спали, как говорится, «одним глазом». Трудно было доверять новым людям, тем более с оружием в руках, которые буквально вчера ещё воевали на стороне врага.
Из всей этой команды, которую мы всё-таки в конце концов доставили в район нашей базы, впоследствии в моей группе были два человека, лица которых я помню до сих пор, но вот фамилии давно вылетели из головы. Помню одного круглолицего, спокойного даже флегматичного парня, звали Василий, а другого худощавого с вытянутым лицом, кажется, — Сергей.
Приближался срок, назначенный нами для явки наших Трилесинских «гостей» — татарина и его спутницы. Начальник разведки нашего отряда, который стал называться отрядом имени Димы (по-прежнему нас всех называли «димовцы»), был Алексей Иванович (Приходько Ростислав), — десантник, прилетевший, кажется, вместе с новым командиром нашего отряда — Бедным (увы, скорее это кличка, такая же как «Батя» или «Дима» — настоящей фамилии я не знаю), решил в первую очередь познакомиться и поговорить с этими двумя, а затем поручить связь с ними одному из наших партизан, если не ошибаюсь, Загорскому.
Втроем мы и отправились в Сычевичи, разместившись в санках запряжённых одним из наших жеребцов, пригнанных из-под Сморгони. Быстро пролетели знакомые деревни Бобры, Калачи, Козлевщину, Манилы, Загорцы. В последней мы оказались уже в вечеру, и застава бригады им.Фрунзе (бывший отряд Лунина), размещавшаяся там, предупредила, что ехать в Сычевичи ночью опасно: у них есть сведения, что там может быть засада. Это нас встревожило, так как именно на завтрашний день было намечено свидание на хуторе у Клюев. Учли предупреждение соседей по дислокации, которые, естественно, лучше знали обстановку в этом районе, решили дождаться утра в Загорцах и ехать в Сычевичи только после выяснения обстановки.
Завернули в одну из хат на ближайшем к Сычевичам конце деревни (как и Сычевичи, деревня Загорцы не была расселена не хутора). В хате была страшная теснота, но что меня больше всего удивило, так это то, что я встретил здесь мою знакомую по Сычевичам — Зосю, которую с весны так и не видел, не бывая больше в этих краях. Мы разговорились. Оказывается, их маленькая хата в Сычевичах сгорела, и они перебрались сюда. Не помню уж всех обстоятельств пожара, и имели ли к нему отношение немцы. Помню только, что когда я выходил во двор, одна из женщин предупредила меня не любезничать с Зосей, так как она уже «просватана» за одного из партизан.
Мы расположились на соломе, постеленной на полу, но... уснуть не могли. Полчища блох набросились на нас. Мы ворочались, чесались и, в конце концов, не выдержав и проклиная всё на свете, выскочили из хаты и закопались в сено в какой-то сараюшке на дворе. Там и продремали до утра, мечтая о бане в Бобрах. Была уже зима, но, к счастью, не очень холодная.
Лишь где-то в середине дня появились мы у Клюёв. На свидание явилась только женщина, но не одна, а с ребёнком — девочкой на вид лет шести—семи. Сослалась, что не с кем было её оставить. После того, как Алексей Иванович долго беседовал с ней и сформулировал ей задание, она попросила хозяев хутора оставить на время выполнения задания девочку у них. Последняя им очень понравилась, и они с удовольствием согласились ненадолго приютить её и подкормить после голодных городских харчей. Мы же на неё не обратили почти никакого внимания: девчушка, как девчушка.
Каково же было моё изумление, когда спустя длительное время уже в 1944 году мне рассказали, что эта девчушка оказалось взрослой женщиной—карлицей и за время нахождения у Клюёв, где постоянно бывали партизаны разных отрядов, успела многое подслушать. Загорскому крепко досталось от начальства за потерю бдительности. Значительно позднее, уже после войны, Аминев мне рассказывал, что ему «особисты» устраивали очную ставку с нашим «гостем» — татарином; он действительно был подослан немцами. Про дальнейшую судьбу этой троицы мне ничего не известно.
С хуторами в лесистой местности за Вилейкой вблизи Нарочанки связано моё знакомство с Кимом Евсеевичем Антипенко одним из организаторов партизанского движения на Вилейщине. Как и мне, Антипенко пришлось пройти всё: и фронт, и ранение, и плен, и побеги из неволи. В партизанах он действовал под кличкой Мишка Волк. При встрече на одном из этих хуторов уже не помню во время которого похода под Сморгонь, мы разговорились, и, когда он узнал, что я учился в Ленинграде, а он был ленинградцем — работал там — у нас нашлось что вспомнить. На прощание я записал место его работы завод №7 на набережной Жореса (была и такая в Ленинграде), его имя, фамилию и отчество. Блокнотик с записью потерялся где-то после войны, но в памяти всё сохранилось.
Знакомясь с книгой «Партизаны Вилейщины» я нашёл там упоминание о военной судьбе Антипенко и вспомнил, что мы встречались, хотя на фотографии, находящейся в книге, я его не узнал в мундире с погонами и ещё сомневался: тот ли это Ким Евсеевич?
Но когда Николай Николаевич Михайлюк подарил мне книгу «Люди Нарочанского края» (сборник воспоминаний партизан и подпольщиков), где помещены были и его краткие воспоминания, я обнаружил там же воспоминания и Антипенко, его фотографию, каким я его помню, а главное, были указаны год и место его рождения и настоящее место жительства — город Рига.
Сообщив своим знакомым в Риге эти данные, вскоре получил от них выданные адресным бюро бланк с его адресом. Написал ему. Он тоже меня вспомнил к в 1987 году, приехав в Ленинград к своим дочерям, он навестил и меня. Так возобновилось наше знакомство без малого через сорок пять лет.


 Варлам Шаламов «Проза, стихи» Новый мир №6, июнь 1988 г.
Варлам Шаламов «Проза, стихи» Новый мир №6, июнь 1988 г.


 Павленко Н. «уроки памяти», Знание—сила №12, 1988 г.
Павленко Н. «уроки памяти», Знание—сила №12, 1988 г.


 Климов И., Граков Н. «Партизаны Вилейщины», Минск, Беларусь, 1970г.
Климов И., Граков Н. «Партизаны Вилейщины», Минск, Беларусь, 1970г.


