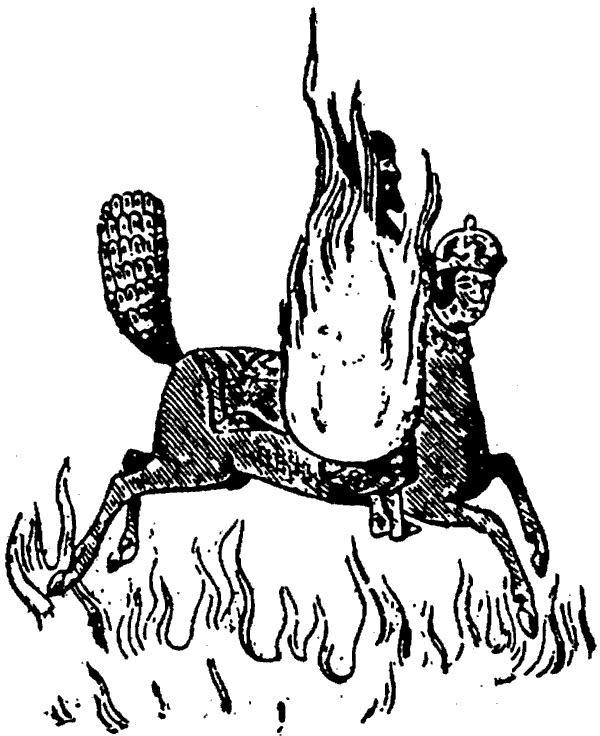
Рис. 56. Вознесение Магомета на небо, аналогичное вознесению евангельского Христа. (По старинному рисунку, воспроизведенному в «Истории Религий» Шантепи де ля Сосея).
| С тех пор, как Вечный Судия Мне дал всеведенье пророка В очах людей читаю я Страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром божьей пищи. Завет предвечного храня, Мне тварь покорна там земная, И звезды слушают меня, Лучами радостно играя. М. Лермонтов. |
Проследим теперь и конец романа об аравийском пророке, где правдоподобное тоже чередуется с фантастическим.
Явное для всей Мекки сближение нового Христа со сторонниками учения Иуды послужило, говорят нам, к усилению ее негодования против ниспровергателя богов. Не имел в Мекке своего молитвенного дома, он и его последователи относились к храму Метеоритного камня, как к мечети, а не пантеону многобожников. По временам, с громким восхвалением единого бога, они ходили вокруг «подарка с неба», несмотря на то, что в тех же стенах совершались празднества в честь Гобала, Аллаты, Уззы, Менаты и второстепенных богов и богинь. Отсюда возникала у самих осколков метеоритного взрыва столкновения между исламитами и многобожниками, причем обе стороны не ограничивались бранью и насмешками, но прибегали и к более чувствительным воздействиям.
Изобретая для исламитян ограничение за ограничением, многобожннки дали клятвенное обещание не выдавать своих дочерей замуж за последователей пророка.
Упорное сопротивление мекканцев приводило «Достославного» мало-по-малу к сознанию, что ни союз с мессианцами, ни поддержка Абу-Бекра, ни личные усилия Омара, Гамзы и нескольких решительных голов не утвердят здесь ислама. Преследуемый ненавистью многобожников, пророк решился, наконец, перенести проповедническую деятельность в чужеземную среду и с этою целью перебрался, скрытно от мекканцев, на оазис в город Таиф.
Таиф, в двух днях пути от Мекки, принадлежал тогда колену Сякиф, которое, позабыв печальный результат неверия гадийского народа, пребывало в многобожии. Патронат над собою и над своим райским уголком, колено Сякиф признавало за богиней Аллатою (Эл-Лата). Здесь был главный храм в честь ее, в который стекались все сыны Аравии, исповедовавшие ее культ. В храме находилось изваяние богини, никогда не знавшее недостатка в роскошных бирюзовых украшениях и ожерельях из драгоценных камней. Она видимо была хорошей предстательницей перед Аллахом, так как благодаря ей городские родники никогда не иссякали. После весеннего праздника богине окрестные луга быстро покрывались цветами, а в рощах не умолкали, благодаря ей, дивные песни пернатого царства, реяли и жужжали несметные рои пчел, отягченных сладкою пылью. По всему пространству оазиса жизнь, благодаря ей, била ключом. Приятное ржанье коней сливалось с блеянием стад и веселым фырканьем кротких верблюдов. Повсюду из шатров тянулся дымок. Словом, могучее покровительство старшей дочери Аллаха обеспечивало оазису счастливую жизнь, при которой трудно было рассчитывать на успех религиозной реформы, клонившейся между прочим и к ниспровержению самой богини.
И вот, перед воротами этой резиденции благодетельной богини появились два странника, восседавшие на одном верблюде: это были вдовец Хадиджи и его приемыш Зеид.
Появление пророка перед храмом Аллаты привлекло сюда весь город. Не рискуя переступить за порог обиталища богини, новый Моисей ограничивался проповедничеством единого бога в ее священной роще, но не успевал он провозгласить: «во имя бога милостивого и милосердного!»—как следовавшая но пятам его толпа преследователей поднимала обструкционный шум. Было бесполезно возносить руки в горнее пространство, обещать райские услады или предвещать всенародное истребление самумом и землетрясением. Аллаха здесь пользовалась, по словам историков ислама, слишком большим доверием, чтобы нашелся кто-нибудь для ее ниспровержения. Нашлись только грубые люди, избившие самого пророка до крови. Его гонители были беспощадны, и не успокоились пока несвоевременный проповедник и его спутник не умчались по дороге в Нахлю. Там пророк остановился, чтобы сколько-нибудь восстановить свои силы. И здесь же посетил его — говорят нам — один из обычных проповеднических припадков, при котором сонм гениев прислушивался к его поучениям, и гении порадовали его признанием, что, выслушав самую малую частицу его чудного Корана, ведущего на прямой путь, они никогда не будут больше признавать существования у бога родственников и товарищей, супруг и детей.
Сочувствие гениев ободрило упавшего духом пророка особенно после того, как ангел Гавриил сообщил ему последствия такого события.
«Когда кончилось твое чтение, — сказал он ему, — гении возвратились к своим, чтобы быть их учителями. Они сказали: «мы слышали писание, ниспосланное людям после Моисея и ведущее к истине и на правый путь. Будьте же внимательны к призывающему вас на поклонение единому богу».
Обрадованный столь могущественною нравственною поддержкою, исламитский пророк решил, — говорят нам, — возвратиться в Мекку, где все же были у него поклонники, оставшиеся теперь без главы и руководителя.
Мекка быстро узнала о его приезде, и Абу-СаФьян не замедлил собрать главарей корейшитов, чтобы обсудить вопрос: не изгнать ли вдовца Хадиджи навсегда в пустыню и даже не перевести ли его на другой берег моря? Мнения по обыкновению разделились, но общий голос склонился к тому, чтобы назначить ему срок для совершения чуда или для оставления навсегда проповеднической миссии в Аравии.
И вот в 12 часов ночи, когда он почивал в комнате своей младшей жены Айши, к нему явился ангел Гавриил и сказал:
— «Восстань и следуй за мной».
В это время пронеслась по небу молния, и к порогу дома спустилось творение «Эль-Борак» (комета) с огненным хвостом и лицом гурии. Тело ее состояло из алмазов и драгоценных камней и сняло подобно Солнцу. Она понимала слова, но не обладала речью. Узда из изумрудов и яхонтов лежала небрежно на ее хребте. Пророк сел на нее и быстрее молнии понесся к Иерусалиму» (рис. 56). С этим согласны все биографы Магомета.
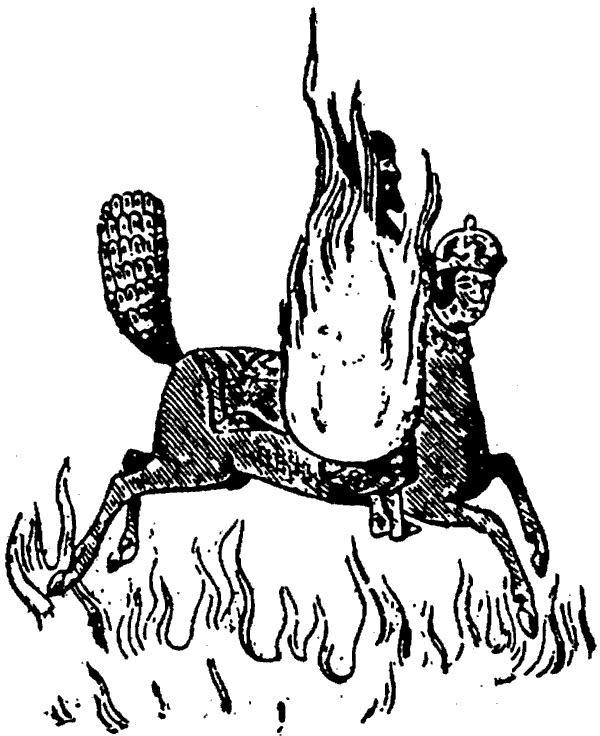 Рис. 56. Вознесение Магомета на небо, аналогичное вознесению евангельского Христа. (По старинному рисунку, воспроизведенному в «Истории Религий» Шантепи де ля Сосея). |
Я думаю, что первоисточником этого сказания было появление на небе большой кометы, и если мы допустим, что «пророк» действительно жил в начале VII века, то это могла бы быть комета, появившаяся в июле 615 или 616 года. Она была, судя по китайским летописям Ше-Ке и Ма-Туань-Линь, большая и заостренная и прошла из созвездия Льва в Большую Медведицу. А если он списан с Магомета Газнийского, то и тогда найдем комету.
Эль-Борак остановилась перед вратами Иерусалимского храма. Здесь пророк привязал и своего воздушного коня к кольцу и подкрепился сосудом молока. Перед вратами иерусалимского храма, его приветствовали все пророки и святые, вставшие с этою целью из своих гробов. Магомет помолился Аллаху, и с небес спустилась лестница (эклиптика — дорога Иакова), сотканная из лучей света и терявшаяся в необозримой беспредельной выси. По приглашению ангела пророк вступил на эту лестницу, опиравшуюся на камень Иакова, служивший фундаментом иерусалимскому храму, и понесся вверх быстрее мысли.
Каждое небо, через которое лежал путь пророка, имело ворота и стражу, которая пропускала путников только после обстоятельных ответов, кто и куда идет. Но одно имя нового пророка служило повсюду лозунгом. Перед ним преклонялись все легионы ангелов.
Первое небо — из чистого серебра — оказалось хрустальным сводом с привешенными к нему звездами на золотых цепях. Каждая звезда имела своего сторожевого ангела (фигуру своего Созвездия). Но эти ангелы имели не исключительно человеческий лик. Те, которым предназначено ходатайствовать на страшном суде за зверей и птиц, имели звериные или птичьи головы. Над птичьими ангелами начальствовал белоснежный петух, настолько большой, что он касался гребнем второго неба, отстоявшего от первого на пятьсот лет пути. Назначение петуха — возглашать хвалебную песнь богу и подавать на этот предмет сигнал всем земным петухам. При кончине мира он умолкнет, не подаст более голоса и это будет знамением наступившего страшного суда. Первое небо служило обителью Адама, который, увидев нового пророка старого единобожия, возблагодарил Аллаха за дарование ему такого знаменитого потомка.
На втором небе вдовец Хадиджи встретил Ноя и Иоанна (Богослова), которые пожелали путнику великих милостей Аллаха.
На третьем небе, состоявшем из драгоценных камней, его принял прекрасный Иосиф. Здесь помещалась канцелярия ангела Исрафила, настолько колоссального, что расстояние между его двумя глазами равнялось семидесяти тысячам суток пути. Он вел книгу о времени рождения и смерти каждого человека.
Четвертое — изумрудное небо, — охраняемое Енохом, обращало на себя внимание апгелом громадной величины, постоянно проливавшим неиссякаемые реки слез (Млечный Путь), которыми он омывал грехи людей.
Пятое — брильянтовое небо — находилось под охраною Арона. Оно служило обиталищем (в сонме других ангелов) ангела мести и казней (Скорпион на жертвеннике). Безобразный, покрытый наростами, он восседал на престоле, постоянно объятом пламенем, и никогда не выпускал из рук огненного копья и связки раскаленных цепей.
Шестое — карбункуловое небо — охранялось Моисеем, который при виде своего двойника лицом к лицу перед собою, понятно, зарыдал, но, как человек дипломатичный, объяснил ему своп слезы тем, что он — Моисей — привел с собою в рай меньше людей, чем приведет их новый проповедник единобожия. Здесь и Иоанн Креститель просил вдовца Хадиджи помолиться за него.
Седьмое небо охранялось ангелом с 70.000 голов, с 70.000 ртов в каждой голове, с 70000 языков в каждом рту, причем каждый язык воспевал хвалу всевышнему богу на 70.000 наречиях. Встретившиеся здесь Абрам сообщил пророку, что это небо предназначено служить ему обиталищем после смерти. По некоторым источникам он дружески встретился здесь, а не на втором небе, с сыном Марии, который один из всех святых не просил его предстательствовать .за него перед Аллахом.
Помолившись в небесном храме метеоритного камня, высящемся непосредственно над земным храмом того же имени, пророк очутился возле Лотоса, дерева, обозначающего границу всего сущего (ось мира). Ветви его были шире пространства между небом и землею. Бессмертные птицы, укрывавшиеся в густой его листве, повторяли при прохождении нового пророка стихи Корана. Плоды Лотоса были приятнейшей смесью молока и меда. В каждом семечке плода заключалась черноокая дева, созданная для блаженства верующих. Из под корней Лотоса вытекали райские реки Тасним и Кевсерь. Омовение в последней резрешило пророка от всех его грехов прошедших и будущих. Далее он увидел девицу, предназначенную в гурии его приемышу Зеиду, увидел внизу огонь геенны, причем устрашился до того, что ангел поспешил закрыть ее жерло. Потом он промчался через области ослепительного света и беспроглядной тьмы и наконец предстал перед престолом всевышнего бога.
Чтобы увидеть лицо Аллаха, ему было разрешено приподнять семьдесят занавесей. За ними восседал на троне вездесущий, по правую сторону которого горели брильянтовые слова:
«Нет другого бога, кроме истинного бога, Достославный — посланник бога».
Положив руки — одну на плечо вдовца Хадиджи, а другую на грудь ему, — Аллах вступил с ним в дружескую беседу. В течение ее новый пророк выговорил девяносто девять тысяч слов и выслушал правила намаза. Аудиенция кончилась.
Сопутствуемый ангелом, пророк возвратился по лестнице в иерусалимский храм, где ожидала его Эль-Борак. Не прошло и мгновения, как он очутился, прилетев на ней, у себя дома, на кровати, возле жены своей Айши. Все это дивное путешествие совершилось настолько быстро, что из опрокинутого им перед полетом кувшина не успела еще вылиться вода.
Явились, — говорят нам, — скептики, допрашивавшие пророка: в бодрствовании или только в сновидении совершено было им восхождение к престолу всевышнего? Но вопрос этот, как тогда, так и теперь, остается нерешенным: шииты стоят за сновидение, а сунниты за фактическое происшествие.
Сам же пророк благоразумно уклонился от ответа на него и даже от ответа на вопрос о росте и фигуре Аллаха. Только одна из песен Корана говорит:
«Его нельзя изобразить и описать красками. Он не имеет членов, у него нет головы, нет ушей, глаз, языка, носа, рук, ног и вообще он освобожден от всего подобного».
Благодаря такому описанию Аллах и был потом предан анафеме православною церковью под именем олосферического бога.
Чудесное путешествие не только не увеличило числа последователей ислама, но даже оттолкнуло от пророка многих из его образованных учеников. Одна из его теток, — говорят нам,— даже вышила это путешествие шелком по материи в карикатурном виде и выставила его на общее посмеяние.
Отпадение образованных прозелитов от пророка, запутавшегося в семи небесах, вознаградилось однако присоединением к нему огромного количества аравийской бедноты и без того уже склонной к его ученью за его громы против богатых и за обещание разделить между бедными их имущество.
Впрочем распространению единобожия, сводившемуся в сущности к низвержению статуй и икон, могли содействовать в начале VII века и многие астрономические явления. Рассматривая небесные события того времени, мы находим после вышеописанной кометы еще несколько солнечных и лунных затмений.
Из солнечных затмений через Аравию в продолжении 16 лет прошло целых пять:
601—III—10 в сильной фазе в созвездии Рыб (ок. 10° эклиптикальной долготы по координатам 1900 г.).
604—XII—26 кольцеобразное в Стрельце (ок. 295° эклиптикальной долготы).
606—VI—11 в частном виде в Близнецах (ок. 100° эклиптикальной долготы).
616—V—21 в сильной фазе в Тельце (ок. 80° эклиптикальной долготы).
614—XI—4 в сильной фазе в Скорпионе (ок. 242° эклиптикальной долготы).
А из лунных одно очень глубокое:
615—VI—16 в 23 часа 23 минуты от гринвичской полуночи, сверхполное (14"0) в Стрельце под 284° эклиптикальной долготы.
Однако было бы большой наивностью думать, что простое появление комет и учащение солнечных и лунных затмений могло послужить сигналом к проповеди единобожия и к низвержению статуй и икон в целой стране.
Я не буду говорить уже о том, что единобожия в абсолютном смысле и до сих пор нигде нет, так как все религии допускают кроме бога-творца-миров еще целый рой бестелесных существ: архангелов, херувимов и серафимов, о одной стороны, и чертей с антибогом-сатаной, с другой. И раз сам бог-творец и все они представляются до сих пор антропоморфно, то почему бы и исламитам не делать для себя их изображений, почему их с ненавистью и фанатически истреблять, уничтожая в жизни человечества всякое изящное искусство? Почему, кроме бога-творца, не допускать бы и исламитам его супругу, а вместе с нею и детей? Для простого безграмотного человека, чуждого всякой высшей отвлеченной философии естествознания, единобожие кажется совершенно неестественным. Фетишизм для него неотъемлемая часть представлений о сверхъестественном мире, а потому и всякий пророк, проповедующий низвержение их кумиров, подвергся бы только избиению, как мы и видим в рассказе о приключении нашего, достопочтенного пророка в городе Таифе.
Каким же образом могли не только возникнуть в целых странах около Средиземного моря массовые народные движения, которые сводились к истреблению предметов скульптуры и живописи вообще, но и восторжествовать?
Ответ на такой вопрос дает нам геофизическая характеристика всех стран, где произошло измаэлитство, богоборчество и иконоборчество вообще. Это — область частых землетрясений по прибрежьям Средиземного, Черного и Красного морей и Персидского залива. Тогда все становится понятным.
Подумайте только сами. Вот происходит ужасный толчок под вашими ногами, и вам кажется, что вся земля зашаталась, как корабль на взволнованном море; какая-то могучая сверхъестественная сила в гневе потрясает все кругом; рушатся каменные дома зажиточных людей, погребая их под собою, рушатся храмы и, падая па землю, разбивают вдребезги статуи всех своих богов, и только палатки кочевников да небольшие шалаши бедняков портятся сравнительно мало и во всяком случае не погребают под собой их обитателей.
В чем причина такого гнева неведомого, но всесильного бога? Из за чего он до такой степени вдруг вышел из себя, что погубил и правого и виноватого? Валяющиеся осколки всех богов и низвергнутые их храмы достаточно показывают первобытному уму, что «всесильный» разгневался именно на них и разбивая их изображения и их храмы, не пожалел и всего окружающего населения, поклоняющегося им. Значит это страшно опасно, и чтобы наказание не повторилось снова, надо скорее самим уничтожить всякую скульптуру и живопись, приводящею к таким катастрофам.
Понятно, что сейчас же находился и вожак, готовый встать во глазе такого движения; понятно, что за ним шла и масса фанатических сторонников, особенно из бедноты, стремящейся поживиться остатками развалин, а так же и имуществом, накопленным жрецами этих ненавистных всемогущему богу изваяний.
И вот мы приходим к логическому выводу. Первое историческое проявление богоборства мы имеем в идолоборстве византийско-сирийского императора Льва Исаврянина, т. е. Льва из страны Исава, относимого к 717—741 годам нашей эры. Он вышел, как показывает и прозвище его, из южной части Малой Азии, прилегающей к Сирии, и мы можем смело сказать, что поводом к начатому им разбиванию статуй и уничтожению всякой живописи и скульптуры, представляющей людей и животных,— было какое-нибудь страшное землетрясение в его время или даже несколько таких на восточных побережьях Средиземного моря, где распространился и ислам. И нам становится понятно, почему богоборство не проникло ни в среднюю Европу ни в азиатские равнины, находящиеся вне области тектонических сдвигов земной коры.
Но почему же, не осталось их описаний у летописцев? Не потому ли, что погибали и они?
Само собой попятно, что если такие явления не были описаны тогда же или записи о них не сохранились, то исчезла в следующих четырех-пяти поколениях и самая память о них, а сохранился только результат: переход от многобожия к поклонению единому богу, не терпящему даже своего собственного изображения в виде статуи или на картине. Ведь самые страшные стихийные явления в их полной силе чувствуют только участники, а те, кому они рассказывают их, воспринимают слышанное с большим участием лишь в том случае, если дело касается лично известных пм людей, а если погибших и пострадавших слушатели никогда не видали и ничего о них лично не знают, то редко повторяют услышанное. А рассказ из третьих или четвертых рук теряет уже всякий первоначальный колорит и забывается через некоторое время, как сон.
Возьмем хотя бы страшное землетрясение, разрушившее Мессину в Сицилии на нашей памяти. Разве ваши ощущения, когда вы читали в газетах о его ужасах, могли хоть в слабой степени сравниться с ощущениями очевидцев? А вот теперь, когда прошло лишь несколько лет, часто ли вы пересказываете вашим знакомым кошмарные описания этой потрясающей катастрофы, читанные вами тогда в газете? Вы их почти уже забыли, и только у спасшихся от катастрофы они до смерти останутся свежи в памяти.
Но придет третье поколение, и тогда сами потомки этих мессинцев будут в таком же положении, как и вы. В четвертом же поколении исчезнет и у мессинцев память о катастрофе вследствие появления других интересов дня и отсутствия рассказов своих отцов, слышавших о ней лишь как о чем-то минувшем. Так быстро затихает по самой своей природе устная традиция.
Но остаются долго, и часто навсегда общественные последствия крупного физического потрясения, если оно, например, привело к уничтожению какой-либо особенности первоначальной жизни.
Да и пилигримство в Мекку на поклонение осколкам метеоритного камня, так противоречащее могометанскому единобожию, может быть объяснено только сильнейшей метеоритной катастрофой над Красным морем, равносильной все низвергающему урагану по его прибрежьям.
Конечно, мне могут сказать, что реформация в средней и северной Европе, сопровождавшаяся отказом от почитания статуй и икон произошла по инициативе самих, разочаровавшихся в папстве, людей без участия землетрясений, по умственное состояние общества в эпоху Возрождения не может быть сравниваемо со средневековым. И это тем более, что скептическое отношение к статуям богов и их воображаемым портретам уже достаточно было укреплено предшествовавшими низвержениями языческих богов самой же католической церковью. А при начале средних веков для иконоборства не было еще никаких прецедентов, и даже никаких поводов сомневаться в действительности многобожия. Только реальные, бьющие в глаза причины, могли привести к иконоломству тогдашних людей.
Разбором соотношений между стихийными явлениями окружающей природы и религиозными представлениями народов еще не задаются историки религий, а потому и возникновение ислама в лучшем случае сводится ими на демагогию.
Корейшиты избрали депутацию из решительных голов, — говорят они нам, — и послали ее к дому пророка-демагога с уполномочием действовать сообразно с обстоятельствами. Но каково же было ее разочарование, когда в его доме она нашла только одного Али, который, как оказалось, выходил уже несколько дней на крышу дома для молитвы в мантии пророка. «Достославный» покинул Мекку без динария в кармане, лишь Абу-Бекр увез с собою 800 диргем.
Приблизившись на восьмые сутки к Ясрибу (будущей Медине), исламитский пророк единобожия приостановился на холме Кобы, где его дромадер опустился на колени и не пошел дальше. Единобожники соорудили впоследствии на этом месте богатую мечеть, так что и самая остановка верблюда послужила исламу на пользу. Благодаря ей последователи пророка в Ясрибе успели приготовить ему торжественную встречу.
Ему была поднесена превосходная белая мантия, в которой он и совершил свой въезд в город, где народные массы выразили пришельцу всеобщее, дружеское расположение. Женщины подносили ему наперерыв чаши кумыса в благодарность за то, что ислам противился убийству новорожденных девочек. Мужчины же выносили к нему своих домашних идолов и бросали их под ноги Аль-Касвы. Счастливый верблюд не боялся ступать своими мозолистыми пятами на Аллату, Уззу и Менату, что производило в уличной толпе громадный эффект.1
1 Череванский: Мир ислама, I, 188—193.
Была, — говорят нам, — пятница. Окруженный рядами восхищенных последователей, державших пальмовые ветви, пророк единобожия, как евангельский Христос при въезде в Иерусалим, ехал в свою новую резиденцию. Он ехал со знаменем зеленого цвета, прикрепленным к концу копья, даром одного из хищнических племен Аравии, заявивших таким образом о принятии ими ислама. Благодаря этому знамени, воодушевлению толпы и блеску оружия ансаров, пророк выглядел теперь главнокомандующим, готовым обратить свои песни в приказы с поддержкою их взмахами меча и призывом небесных громов на головы противников.
В первые дни пребывания в Ясрибе влияние на простолюдье достигло степени непреодолимой силы, благодаря которой к нему потянулись целые городские части (даже и с богатыми людьми, боявшимися ограбления) и заявляли о Принятии ислама. Новообращенные давали присягу о покорности единому богу и о признании вдовца Хадиджи его посланником. Присяга состояла в пожатии руки пророка и в протираниии глаз, что служило свидетельством просветления их новым догматом.
Вскоре прибыла из Мекки его жена Айша и с нею Али, Зеид и толпы рабов. Пророк имел счастье услышать азан, провозглашенный Билялем, который остался и по настоящее время призывом всего правоверного мира к богослужению:
«Бог велик, бог велик! Нет бога, кроме бога, Достославный — его пророк! Собирайтесь на молитву... Нет бога, кроме бога».
Вместе с первым азаном, — говорят нам биографы провозвестника единобожия, — открылась и первая религиозная кафедра, с высоты которой выделявшийся над толпою вдохновенный вития с высоким посохом и длинными, развевающимися по плечам волосами, призывал речитативом людской род к любви и милосердою. На вопрос; «какая милостыня приятнее господу?», они услышали ответ:
— «Ковш воды путнику в знойной пустыне...»
Опасение возможность недоразумений при наличности бедных и богатых среди его сторонников побудили нового Моисея, — говорят нам его историки, — уподобиться Христу и прибегнуть к уничтожению всяких кастовых перегородок. По регламенту его все мусульмане Ясриба составляли одну семью, подчинявшую свои обычаи, вкусы и привязанности исключительно требованиям религий. Этот новый религиозный союз походил на воинствующий орден, каждый член которого обязывался самым поступлением в ислам разрывать все связи, не исключая и семейных, если только они противоречили неумолимой политике начальника ордена. Все старинные договоры, как и старинные понятия были стерты. Философ и поэт абсолютного единобожия переродился волею судеб в грозного вождя и сурового законодателя. Еще недавно безыскусственное и порою вдохновенное течение его мыслей начало уступать место приказам холодного рассудка.
Скромный оратор, стремившийся изобразить собою в Мекке судию всех тварей, почувствовал здесь под собою почву и опору основателя теократического государства. Прежняя поэзия Корана и его философия уступили место сухой кодификации с повелительным наклонением, требовавшим веры в Достославного, не только как пророка, но и как главу государства, избранного самим богом Громовержцем. Заискивая в Мекке у мессиаоцев и назарян, он переменил с ними тон в Ясрибе. Здесь он уже прибегал к небесному воинству только в критические минуты, а вообще организовывал земное воинство, готовое двинуться и против «народа писания» с таким же насилием, как и против язычников.
Поспешая издавать откровение за откровением и не миновавши даже эротических гаремных сцен, пророк-демагог подхватывал налету разнообразные сведения и выпускал их под своею редакцией в виде божественных песней, внушенных ему ангелом.
Нередко откровения возбуждали насмешки даже в его гареме. Так, когда он ответил, что Аллах разрешил ему брать в супруги всех верующих женщин, которые только пожелают — отдаться ему, не исключая двоюродных сестер и теток, Айша говорят нам — заметила ему довольно колко:
— «Поистине удивительно, что твой господь спешит изъявить согласие на все твои удовольствия».
Если вдовец Хадиджи, как политик, законодатель и пророк, приобрел теперь высокую авторитетность, то нельзя того же сказать, — говорят нам его историки, не сомневающиеся, что Коран написан им, — о литературной стороне его песнопений. «Меккские гимны Корана отзываются по заглавиям если не чистою поэзиею, то все же ласкающими и умиротворяющими образами: «Ночь», «Утренняя заря», «Рассвет», «Звезда», «Солнце», «Луна», «Ангелы», «Мария», «Поэты», «Муравьи». Но не так нежны заглавия откровений, поведанных в Ясрибе: «Военная добыча», «Железо», «Война», «Гром», «Ряды сражающихся» «Победа»... Нужно ли нам считать это «перерождение» нового пророка, — будь он сам реальная личность или фантазия романиста, — непонятным с психологической точки зрения?». Ни в каком случае. Sè non è vero, è ben trovado...
С психологической точки зрения здесь не было бы никакого перерождения, а только естественная эволюция богато одаренной от природы человеческой души. Одаренность же заключается в разнообразия и силе полученных ею по наследству психогонических генов, т. е. своеобразных молекулярно-малых скоплений физической энергии в элементах человеческого эмбриона, вызывающих в нем развитие тех или иных психических качеств. В каждом эмбрионе есть и гены восторженности, и гены сладострастия, и гены любознательности, и гены общественности, и целый ряд других генов, превращающихся по мере развития организма в различные органы его физиологической, а с нею и психологической эволюции. И все изменения характера человека по мере его возраста являются результатом борьбы еще таинственных для нас эманации анатомо-физиологических органов, произведенных этими генами в нашем теле.
Лишь в недавнее время эта точка зрения, впервые обоснованная современником Дарвина — Менделем, стала вновь разнообразно разрабатываться опытным путем над животными и приводит к поразительным результатам. Петухи, из которых удаляли их производительные органы и заменяли куриными, приращенными даже где попало, не только теряют все своп петушиные свойства и самый голос и приобретают совершенно куриный характер и склонности, но даже и яркое оперенье их быстро выпадает и заменяется простым куриным, а гребень атрофируется, и раскрашенная петушиная голова превращается в обычную куриную. Недостает только выроста на месте удаленных половых органов петуха, соответствующих куриным, со способностью класть яйца.
Рассматривая с этой генетической точки зрения рассказ об изменении характера Достославного пророка, мы не можем не видеть, что авторами этого психического процесса являются уже писатели-реалисты нашего времени. При отъезде из Мекки в Медину изменились у героя этого романа только практические приемы для осуществления его душевных стимулов, а не самые стимулы, и с нашей точки зрения мы могли бы высказать (если бы считали все это за реальную биографию, а не за чистейший роман) такие соображения:
С детства в его организме богато развились генетические возбудители восторженности, сделавшие из него созерцателя и поэта дня и ночи среди пустынной аравийской природы и с ними он попал, полный суеверного страха и благоговения, в сторожа 360 идолов в храме метеорита. Но это благоговение быстро сменилось у него презрением, когда ему, после праздников, приходилось счищать с богов омерзительно вонявшие остатки сгустков загнившей крови жертвенных овец и верблюдов, которою их кропили, и видеть своими глазами заведшихся в них червей. А на его вопросы священнослужителям, — как же это могут терпеть боги? — приходилось услышать от них явно неудовлетворительные ответы. Понятно, что честный по натуре мальчик не мог примириться с нелепостью и ему захотелось бежать оттуда вновь в пустыню, чтоб по прежнему сливаться там душою с ее стихийными силами и обличить обманщиков. А это было трудно сделать, так как во главе их был его собственный дед, приютивший его в своем доме и, повидимому, искренне его любивший.
Потом жизнь бросила его в караванную торговлю, при которой он ознакомился с мессианскими идеями о творце неба и земли и всего живого в природе и, как поэт в душе, он легко их усвоил и придал им поэтическую форму, особенно когда, женившись на своей госпоже, он получил возможность сделать ее дом салоном для собеседования высшей аравийской интеллигенции того времени, выучился читать и с жадностью проглотил всю тогдашнюю литературу, добывая ее не иначе как из Египта, потому что ни в Мекке, ни в Медине не было никогда библиотек, и, наконец, благодаря своим галлюцинациям, возомнил себя призванным самим верховным богом бороться с презираемым с детства идолопоклонством.
И тут заговорили в нем эманации тех тканей его организма, которые возникли из эмбриональных генов самомнения, заложившихся в нем от отца и матери в момент зачатия, и стали, с возрастом, действовать все сильнее и сильнее. Попытка преобразовать одним порывом убеждения в новый лучший вид весь духовный, гражданский и экономический строй окружающей его жизни не дала ему ничего, кроме насмешек культурной части населения, да сочувствия некультурных аравийских кочевников и бедноты, мало интересовавшейся его религиозным идеями, но прекрасно понимавшей непосредственные выгоды для себя при разделе имуществ богатых и представлявших себе эту выгоду в самых экстравагантных размерах.
Рассуждая и далее в таком же роде, мы могли бы сказать:
Волей неволей ему пришлось объединиться с бедняками и сделаться их вождем, вынося на их своекорыстных стремлениях и свои возвышенные идеалы по девизу: цель оправдывает средства. Понятие, что ему льстило бы и всеобщее поклонение суеверных мужчин и женщин, начинавших в нем видеть действительного апостола, посланного творцом миров, осчастливить их на земле и на небе. А так как земное, ближайшее непосредственное счастье, особенно привлекательное для первобытных душ, понималось каждым в чисто материальном и личном смысле — обогатиться как можно скорее самому, захватив чужое имущество, — то пророку ничего не оставалось бы делать, как стать вождем этой толпы в ее походе на своих богатых собратьев, провозгласив:
«При встрече с неверными, отсекайте им головы, пока не нанесете им совершенного поражения (Коран 47, 4), а их жен и имущество берите себе».
Кто же были бы его противники? — Все, кто не признал его своим вождем.
Читатель видит, как вес это выходит психологически правдоподобно, пока дело идет лишь о религиозной войне между Меккой и Мединой, не уходя за границы Аравийского полуострова, но только... если это верно, то почему же такие восстания бедных на богатых во всех странах, где есть те и другие, не происходят каждую неделю? Разве среди сотен тысяч людей не найдется всегда и везде какой-нибудь вожак, который, вскочив на бочку, поведет толпу на погром? Отсюда ясно, что если массовые экспроприации всех имущих со стороны неимущих не происходят каждый год, то этому препятствуют какие-то могучие силы, и катастрофа общества, построенная на классовых началах, происходит лишь тогда, когда эти силы почему-либо ослабевают.
А ослабеть они могут только в двух случаях:
1) Если постепенное перерождение психики человеческих масс в данной стране дойдет до такого предела, когда старинный строй жизни окажется не соответствующим новым ее требованиям, и толпа найдет себе образованного руководителя, ведущего ее к высшим идеалам, тогда переворот (будет ли он эволюционный или революционный) окажется прочен и новый строй длителен.
2) Если ослабление связующих общество сил произойдет вследствие каких-нибудь случайных катастроф, вроде землетрясения, неудачного военного столкновения с соседями и т. д., или исключительно большой метеоритной катастрофы, тогда опрокинутое низом вверх общество скоро придет в прежнее равновесие и в нем, подобно случайно взбаломученнюй воде, снова произойдет осадок и в этом осадке снова образуются слои населения, мало отличавшиеся от прежних.
Рассматривая с такой точки зрения описываемый историками ислама переворот, имевший будто бы место на Аравийском полуострове в начале VII века нашей эры, мы не видим накануне его ни медленного перерождения психики аравийского населения, как это было перед реформацией при Лютере и Кальвине в средней и северной Европе благодаря развитию книгопечатания, и не читаем у средневековых авторов о каких-либо великих геофизических катастрофах. Да если бы они и были лишь чисто местные около Мекки и Медины, то осталось бы непонятным, каким образом какое бы то ни было общественное или религиозное преобразование могло распространиться из этой некультурной, редко населенной и отрезанной от остального мира страны в более культурные — в Египет, в Сицилию, в Испанию и потом даже на Балканский полуостров? Ведь это также неправдоподобно, как течение реки из низин на вершины гор.
Читатель видит сам, как от этих нескольких простых и несложных рассуждений весь только что приведенный мною психологический роман о Магомете, кажущийся по внешности правдоподобным и даже психологически верным, превращается в роман неправдоподобный и фантастический.
Но разберем его и еще с одной стороны.
Нам говорят, что «могучий поток ислама вышел из низин человеческой культуры и поднялся на ее высоты от могучего влияния на человеческие умы великой идеи единобожия», выдвинутой «Досточтимым».
Я не буду повторительно говорить здесь о том, что всякие идеи сами являются лишь резюмировкой уже совершившегося опыта, а отмечу лишь тот факт, что и девиз исламитства
— «Нет бога кроме бога!» — был в VII веке уже не нов. Разве первая из десяти заповедей, приписываемых Моисею
— «Я властелин твой бог и да не будет тебе богов иных кроме меня» — не говорит того же самого, и разве эта заповедь не выдвинула единобожие в несравненно более культурных странах задолго до мужа Хадиджи в Аравии?
Ведь если мы допустим по старой хронологии, что библейский Моисей умер, как говорят, еще за 2073 года до бегства Магомета в 622 году нашей эры из Мекки в Медину, то становится совершенно непонятно, как идея единобожия за эти 2073 года не успела дойти из Мемфиса до Медины, когда расстояние между ними сравнительно ничтожно, да и путь был совершенно естествен: из более культурной страны в менее культурную, а не наоборот.
Конечно, с точки зрения нашей новой хронологии, отожествляющей Моисея с Арием, дело значительно поправляется. Заповедь: «да не будет тебе богов иных кроме меня» окажется, как и следует логически быть, непосредственной предшественницей первого параграфа современного христианского символа веры. От 325 года, к которому историки относят Никейский собор, где, говорят они, было провозглашено «верую во единого бога отца»,— до исламитской редакции того же положения: «нет бога кроме бога», — прошло только 300 лет. Но в этом случае единобожие тоже шло естественным путем из Италии через Византию в Аравию, а не из Аравии в Византию и Италию. Точно также и прибавка к тезису о единобожии у исламитов: «и Досточтимый (по-корейштски магомет) — его пророк», — соответствует второму параграфу христианского символа веры об обязательности веровать «и во единого властелина нашего Иисуса Христа». Только определение его не простым пророком, а «сыном божиим, единородным, рожденным отцом прежде всех веков», свидетельствует уже о более поздней редакции существующего теперь у христиан символа веры.
Читатель сам видит, как с моей точки зрения приходят в преемственную связь однородные выводы религиозной мысли казавшиеся до сих пор какими-то независимыми обрывками той же самой мыслительной ткани, разбросанными каким-то взрывом по отдаленным векам и странам.
А если мы прибавим к этому, что у первобытного человека отвержение каких-либо богов обязательно сопровождается издевательством над ними, то мы должны будем заключить, что признание каким либо многобожным народом единобожия было равносильно разгрому всех служителей отвергнутых богов и их святилищ.
И что же мы видим?
В 717 году появляется в центре тогдашнего культурного мира — Византии — император Лев Иконобоец (717—741 гг.), или, вернее, идололом (иконокласт по-гречески), родом из страны Исава (Исаврии), лежащей на южном берегу Малой Азии вплоть до Антиохии и служившей связью между этническим бассейном Средиземного моря и этническим бассейном внутренней Азии. Он — говорят нам — завладел из Азии византийским престолом, принудив богодарованного Феодосия III отказаться от императорского звания. А прозвище Льва Исаврянина — «иконолом» — мы должны понимать не в современном русском церковном смысле. Ведь, по-гречески слово икона (έικών) одинаково обозначает и статуи и портреты, действительный смысл этого термина есть: «изображение», особенно в применении к богам.
Все это свидетельствует лишь о том, что в Византии до Льва Иконобойца все время поклонялись статуям, которые он первый начал разбивать и, конечно, во имя поклонения единому небесному богу, а поводом к этому, вероятно, послужило опять землетрясение в Малой Азии или на Балканском полуострове, ниспровергшее статуи и святилища, хотя бы они теперь и были воздвигнуты самому христианскому богу-Громовержцу и потрясателю земли и членам его семейства. Все это продолжалось,— говорят нам, — до 787 года, когда императрица Ирина, не могшая представить себе, как можно обходиться в религии без статуй и портретов тех, к кому прибегаешь за помощью, восстановила их на созванном ею соборе в Никее близ своей столицы Константинополя.
Но раз начавшееся иконобойство уже нельзя было остановить. Лев V, пришедший на византийский престол из Армении и потому прозванный армянином, вновь выбросил статуи и портреты около 813 года и опять только женщина-императрица, современница понтифицины Джованны в Риме, богодарованная Феодора в 842 году опять разрешила пользоваться изображениями в церквах, а константинопольские непрерывные соборы между 869 и 879 годами .приняли компромиссное решение, разрешив молиться только сохраняющимся невредимыми при землетрясениях живописным изображениям на досках, но запретили ломающиеся при каждом гневе «потрясателя земли» статуи, что и сохранилось у православных до настоящего времени.
Отсюда мы ясно видим, что византийское иконобойство было нечто связное, назревшее лишь в средние века и вызванное частыми низвержениями статуй богов во время землетрясений. И вместе с тем мы видим, что оно сильно противоречило даже и тогда психическим потребностям масс, особенно женщин, а потому, как только катастрофа позабывалась, так первая же императрица восстанавливала старый, наглядный культ до нового гнева упрямого «потрясателя земли».
И вот нам говорят, что еще за две с половиной тысячи лет до Льва Иконобойца жил где-то в сирийских и египетских степях Иаков Богоборец, прозвище которого то же самое, и что богоборческое (по-библейски израильское) царство возникло в Палестине еще за полторы тысячи лет до Византии (в 975 году до начала нашей эры), и, просуществовавши там 254 года, исчезло куда-то на много столетий с поверхности земного шара.
Можем ли мы этому поверить?
А вот и другой пример. Христианские апологеты говорят, что заповедь: «люби ближнею твоего как самого себя» была дана богом человечеству через евангельского Христа, а между тем в той же самой Библии, как я не раз уже указывал, мы читаем, что она была дана людям через Моисея. Вот сейчас лежит у меня на столе приписываемая ему библейская книга «Левит», где Моисей говорит своему народу: «люби ближнего твоего как самого себя» (гл. 19, ст. 18) и даже с прибавкой: «и если чужеземец поселится между вами, то да будет он тебе как рожденный среди вас: люби его как; самого себя (Левит, 19, 53,). А ведь это было по обычной хронологии почти за 1500 лет до церковного «рождества Христова»! И только по нашей хронологии, отожествляющей Арона с Арием, а Моисея с Диоклетианом и относящей столбование «Великого царя», давшего начало легендам, с одной стороны, об основателе православной литургии — Василии Великом, а с другой — легендам об евангельском Христе, — эта заповедь принадлежит тому же времени и тому же месту.
Я не хочу, конечно, внушать читателю, будто они имели серьезное влияние на дальнейшую моральную историю человеческого рода. Чувство взаимной любви, как все другие чувства, выработалось не приказаниями свыше, а эволюционными причинами, и не у одного человека, а во всем органическом мире. Еще на самой низшей ступени биологического существования «жидких кристаллов» мы видим стремление их сливаться в известный период друг с другом, результатом чего является их размножение.
Мы видим это течение их друг к другу прежде всего в период копуляции микро-водорослей, когда отдельные индивидуумы их сливаются целиком для того, чтобы потом разделиться уже не в прежней своей субстанции, а в виде смешавшихся друг с другом субъектов; затем это же влечение смешиваться продолжается при половом размножении, вызывая сначала лишь физическую любовь одного пола к другому, нередко с неприязненным отношением ко всем однополовым с собою субъектам, что особенно отчетливо наблюдается у самцов птиц, например, у петухов. Затем к междуполовой любви прибавляется родительская любовь при потребности вырастить свое потомство, а у не хищных животных к этому прибавляется и стадная любовь, как средство коллективной самозащиты... И, наконец, на последней стадии развития, которой в настоящее время достигают еще только высшие в интеллектуальном смысле представители человеческого рода, появляется любовь ко всему живому.
И мы не можем не видеть происхождения всех этих высших ступеней альтруизма из междуполовой любви уже по одному тому, что она развиваются главным образом в период полового созревания, а у ребенка замечается отчетливо только своекорыстная любовь к тому, кто о нем непосредственно заботится. Приказание: «люби ближнего как самого себя» с этой точки зрения есть не приказание, а лишь констатирование уже образовавшегося чувства.
Но возвратимся к основному предмету настоящей главы.
Я собрал сейчас отдельные резюмировки моральной и религиозной мысли, разбросанные у современных историков клочками по разным, отдаленным друг от друга векам и народам, с целью показать, что авторы разбросали их так по недоразумению, а на деле клочки эти по самому своему существу связаны друг с другом и по месту своего происхождения, и по эпохе, и что эпоха эта должна быть не очень уж далека от начала византийского иконобойства при Льве Исаврийском (717— 741 гг.). И кроме того я хотел показать, что идея отвлеченного единобожия, как мало свойственная уму простого человека, должна была вспыхивать лишь во времена ужасов от крупных сейсмических катастроф, разрушавших храмы и низвергавших статуи его прежних богов, и затем при успокоении земли под ногами единобожие не раз теряло свою силу, пока к нему окончательно не привыкли жители сейсмически беспокойных стран от «многократных внушений самой Земли».
И вот опять мы приходим к интересующему нас теперь вопросу: когда, как и где началось богобойство, и какую роль играл в нем тот, кого исламиты называют своим «Досточтимым пророком», пророком, после которого не может быть других?
Мы видим, что все, что мы читали здесь о его жизни в Аравийской Мекке, есть произведение очень поздних европейских, и притом христианских апокрифистов, на половину фантастический и на половину психологический роман, где правдоподобное так же мало исторично, как и неправдоподобное. Посмотрим же теперь, насколько историчными являются его жизнь и деятельность и в Аравийской Медине, если тот, кто дал повод к этому полуфантастическому и псевдо-психологическому роману, действительно в ней жил.