Промильное содержание звуков речи в европейском произношении первых 13 параграфов «Наля и Дамаянты по-санскритски.
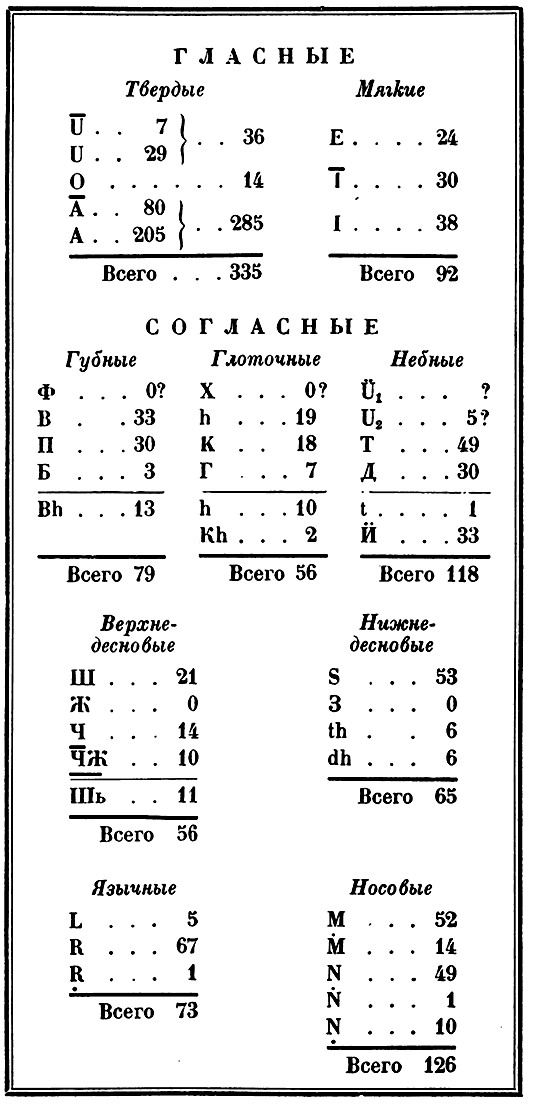
Приступая к этому предмету, я должен прежде всего сделать оговорку. Я не читаю по древне-санскритски, хотя учебники, словари и переводная литература у меня всегда под рукой. Я знаю об этом языке только то, что о нем передают на новоевропейских языках его исследователи, и потому руковожусь лишь их рассказами и европейской транскрипцией слов.
Но если географ, никогда не посещавший отдаленных стран, может высказывать и о них свое суждение по словам других, если историк, не имеющий никакой возможности побывать в прошлом, может писать историю минувших событий по сообщениям летописцев, то и я могу с таким же правом высказать свое общее мнение о санскрите и о его возникновении.
Только с 1559 года нашей эры миссионеры при помощи одного брамина, перешедшего в христианство в Гоа, узнали от него о существовании философское и теологической литературы у браминов на этом языке. И только в 1855 году печатаются неизвестные до тех пор письма итальянца Филиппе Сассетти из Индии на родину, относимые к промежутку 1583—1588 гг. и сообщающие «о языке sanscrita», о его азбуке и сходстве с европейскими языками. Более основательно изучил санскрит и дравидические языки Roberto de Nobili около 1620 г., но только Гейнрих Ромм сообщил в 1664 г. известному иезуиту мистику Афанасию Кирхеру первый образчик санскритского алфавита того же характера, как и еврейский. Ганкследен (1699—1732) первый составил санскритскую грамматику и малабарско-санскритско-португальский словарь, так и оставшийся в рукописи, и только в 1790 году была напечатана очень плохая санскритская грамматика Paulino Bartholomeo.
Мы видим отсюда, что санскритология есть дитя XIX века и что она, стремясь, как и все науки о далеком прошлом, уйти как можно далее в глубь тысячелетии, легко могла заблудиться во мгле веков и принять давнишние столетия за тысячелетия.
И вот, на современном исследователе лежит тяжелая задача выяснить детально достоверность первоисточников такого мнения.
Санскрит (San-Scrita) в переводе значит «искусственный язык» и, подобно средневековой кухонной латыни в Европе, он был до самых последних лет известен лишь индусским священникам, между тем как население огромной Ост-Индии говорит с незапамятных времен другими, национальными языками. Одни из них, как я уже показывал,—дравидического корня на юге Декана, не имеют никакого сходства ни с санскритом, ни с европейскими, а другие—хинди, бенгали, мусульманский, индустани и все остальные—северные, которые я перечислял выше, хотя и дают много созвучий с санскритом по своему коренному звуковому составу, но несравненно менее сходны с этим «ученым жаргоном», чем наши европейские языки греко-итальянского корня.1
1 См. ручной санскритский словарь Каппеллера (1887 года) и подробный санскрито-немецкий Бетлинга и Нота, изд. Петербургской Академии Наук (1853—1875). Также см. Миллер и Кнауэр. Руководство к изучению санскрита.
В классическом санскрите,—говорят нам,—встречаются слова, заимствованные не только с древне-персидского, но и из новых иранских языков. В нем есть не мало заимствований даже с греческого, особенно в математической и астрологической терминологии.
Мы здесь рассмотрим прежде всего, насколько соответствуют общим эволюционным законам наши современные представления о развитии его литературы? Выходит, что очень мало. Прежде всего мы видим и тут ту же самую схематизационную несообразность, какую видели при разборе латинской литературы.
Сначала все идет довольно хорошо с хронологической точки зрения. Возникновение индийской драмы санскритологи относят к VI веку нашей эры, когда,—говорят нам,—появилась «Сакунтала» Калидаса, величайшего из индусских драматургов. А потом начался и целый ряд других таких же писателей и поэтов, вплоть до IX века нашей эры. Я не имею поводов возражать что-либо против этой датировки, близко совпадающей по моей хронологии с распространением на севере Индостана греческого влияния, сменившегося в IX веке мусульманским, но у меня есть все причины сомневаться, чтобы поэмы эпического содержания, каковы «Магабгарата» и «Рамаяна», или поэмы лирического, эротического и дидактического характера, пышно цветшие в Европе лишь в эпоху Возрождения, принадлежали здесь к предыдущему периоду и не сопутствовали драме, подобно тому, как у нас уживаются с нею и лирическая, и юмористическая поэзия, и роман, и сказка для детей, и публицистика, и сатира.
Некоторые второстепенные особенности санскритского языка при огромном пространстве Ост-Индии, почти равняющейся Западной Европе, могут много проще быть объяснены локальными, чем хронологическими причинами. Ведь на всем ясно видимом горизонте истории любые, раз начавшиеся роды литературного творчества имели тенденцию развиваться совместно, или, во всяком случае, сосуществовать с возникающими после них более молодыми ветвями, а не заглушаться ими. Особенно же невероятна мысль, что раз исчезнувшие ветви могут вновь воскреснуть в литературе через несколько веков забвения, даже к более роскошной жизни, чем было раньше. Это было бы то же самое, как допустить, что через некоторое время на ряду с людьми начнут родиться в современном человеческом роде также и вытесненные им когда-то с лица земли первобытные племена, не устоявшие в борьбе за свое существование, и не только родиться, как случайные уродцы атавизма, но и процветать вновь.
Трудно допустить, что период научной философии и критического отношения к чужим рассказам, или даже к впечатлениям, полученным нами самими через органы наших внешних чувств, развился ранее чисто литературного описательного творчества, каковы: лирическая поэзия, сказка и первичная авантюристическая беллетристика. Это то же самое, что сказать, будто кто-нибудь родился от своей матери вполне ученым взрослым человеком, а потом постепенно начал превращаться в юношу и, наконец, дошел до грудного ребенка.
А между тем это самое мы видим с точки зрения современной индусской хронологии, относящей религиозно-философские книги высоко теоретического содержания к периоду, предшествовавшему развитию индусской лирической и эпической поэзии и литературы удивительных приключений. Можно ли этому поверить даже на минуту? Возьмите для примера все современные дикие народы, запоздавшие в своем умственном развитии, благодаря изолированному положению или особым условиям жизни. Куда ни заходили к ним европейские исследователи, они везде находили у них прежде всего рассказы об удивительных приключениях с антропоморфизмом всевозможных явлений природы уже на очень значительной стадии развития, в то время, как научная и отвлеченная философия, хотя бы и первичного мистического периода, не вступала даже и на первую ступень своего развития.
Но если мы не видим этого в современной жизни, то как же допускаем мы это в прошлом? Вот, например, ост-индские «Веды», написанные на санскритском языке, этой латыни жрецов бога-Слова (Брамы), даже более богатой лексиконально, чем язык поэзии и драм. Слово веда значит веденье, от славянского корня ведать. Это теологическая наука индусских жрецов и, судя по тому, что между славянскими народами Балканского полуострова и областью ученого санскрита такого имени для науки нет, приходится допустить, что оно или попало в Ост-Индию с Балканского полуострова с македонскими проповедниками христианства, или, наоборот, пришло в «допотопные времена» на Балканский полуостров из Индии и распространилось также по России, Польше и другим славянским государствам, не привившись, однако, в Греции и в Западной Европе.
Первые исследователи допустили последнее предположение и считали искусственный язык (San-Scrita) ост-индских ученых теологов—прародителем всех славянских и западно-европейских языков, а не занесенным в Индостан особым видоизменением богослужебного языка средневековых славяно-греко-македонских ученых, обогатившимся на ост-индской почве местными или попутными словами и своеобразными грамматическими формами. Но есть ли серьезные причины для такого взгляда, кроме голословного утверждения браминов, будто их предки говорили между собою на этом языке с самых отдаленных времен, незапамятных даже для их дедов и прадедов?
Конечно нет.
Ведь пра-прадеды их жили не раньше, как в XVII веке нашей эры: Получив этот язык от своих пра-прадедов XIV века, без сообщения того, откуда и как получили его эти пра-прадеды. они могли остановиться на мнении, что это и был первичный язык Индостана.
Мы видим, что такой довод в пользу древности санскрита совершенно отпадает, тем более, что выдача чужого за свое находится в полном согласии со всеобщей тенденцией средневековых народов приписывать себе все, что пришло к ним извне не только за два или три десятка поколений на протяжении более тысячи лет назад, но даже и за один десяток поколений, за каких-нибудь 500 лет, если данный период не имел за это время ряда последовательных летописцев.
Все логические выводы говорят за то, что санскрит сам пришел в Индостан из Европы через Месопотамию вместе с религиозными миссионерами славянского, греческого и итальянского происхождения. Все эти народы смешались в Византии с конца IV века и, под влиянием мощных вулканических и сейсмических явлений того времени, выработали фанатических проповедников грозного бога Громовержца, потрясателя земли, и грядущего Мессии, его сына, долженствующего придти на землю и водворить на ней всеобщее счастье. Они бросились и на запад, и на восток. На западе они выработали из смеси балканских диалектов с местными—латинский, тоже искусственный, язык, привившийся к христианскому богослужению и создавший на западно-европейской почве, среди народов с такими же многообразными языками, как и в Индостане, пышную научную и изящную литературу эпохи Возрождения. А бросившись на восток, проповедники Христа выработали мессианство Иезеуса Кришны, того же самого греко-еврейского Иисуса Христа, даже и по имени.
Оба языка, и латинский, и санскритский, с такой точки зрения, сыграли одинаковую культурную роль, и это наиболее естественное представление о их истории и о их возникновении. «Искусственного языка (сан-скрита),—говорят нам,— нет теперь, как разговорного, ни в Индии, ни в Европе, но большинство корней его европейские и притом взятые отчасти из западно-европейских, отчасти из славянских наречий».
Что же легче себе представить из трех предположений: 1) принесли ли его в Индию средневековые миссионеры тогдашней «благой вести» ко всем народам? 2) целые ли народы, в том числе и славяне, и греки, и латины, хлынули в доисторические времена в Индию и сменили там свои языки на местные? и 3) индусские ли переселенцы занесли свой «искусственный язык» в доисторические времена в Европу, а потом, оставив его в наследство местным жителям, исчезли бесследно для истории?
Оба последние передвижения несравненно более громоздки, чем первое, и потому естественно приходится прежде всего допустить, что не гора пошла навстречу Магомету, а Магомет навстречу горе, и только тогда, когда это простейшее допущение оказалось бы неприемлемым, было бы нужно рассматривать и оба другие. Разберем же прежде всего это простейшее допущение, но, чтобы сделать наши доводы более наглядными, начнем изложение с соображений общего характера.
Характерной особенностью санскритского письма, каким его застали европейцы, является, как и в еврейском квадратном почерке, его линованность: каждая буква ставится под толстой короткой черточкой и, можно думать, не без умысла: первобытные писаки были не искусны и потому выводили строки криво. Для того, чтоб избежать этого, и проводились, вероятно, сначала по линейке ряды коротких и равных друг другу черточек, под которыми писались потом истинные буквы,—символизирующие данный звук.
Этот же способ писания мы видим, хотя и в меньшей степени, в арабском и в еврейском письме, и я не могу не обратить внимание читателя на то, что все толстые (жирные) линии идут у них не поперек строки, как у нас, а вдоль нее. Но это, ведь, легко делается лишь в том случае, если мы пишем, как китайцы, строку по направлению к себе, т. е., как говорят, сверху вниз, а не справа налево, или слева направо, как европейцы. Кроме того, и самая возможность писать один ряд черточек толстыми, а другой, поперечный к ним, тонкими требует уже расщепного пера, а не «трости», или «кисти» древних писцов. Значит, в то время, когда вошло в употребление такое санскритское, еврейское и арабское письмо, существовали не только гусиные перья, но и перочинные ножи, которыми их концы расщеплялись наподобие современных стальных. Такое письмо уже явный признак средних веков, а никак не древности.
По характеру своему санскритские буквы мало похожи на наши европейские. Только значок e совсем такой же как наше рукописное е, да краткое у напоминает латинский игрек. Остальные же значки совсем своеобразны, вероятно, потому, что приспособлялись для удобного помещения, под своими черточками.
Привычка еврейских писателей выбрасывать из транскрипции гласные существует в полной мере и здесь, и исключенные гласные тоже изображаются особыми значками под соответствующими им согласными буквами или над их черточкой, за исключением самой частой в санскритской письменности буквы а, которая обязательно подразумевается после всякой согласной буквы, при которой не отмечено другой гласной или не поставлено под ней значка вирамы, имеющего вид нашей запятой и символизирующего безгласное произношение.
Из всех гласных звуков санскритского письма звук а настолько в нем преобладает, что частота его употребления вдвое превышает частоту всех гласных звуков, взятых вместе (табл. XXIV).
Возможно ли это однообразие при естественном образовании какого-либо человеческого языка? Ведь всякий язык начинался когда-то именно с гласных звуков и потому разнообразие их является неизбежным. Отсутствие его указывает на регрессивную эволюцию, которая возможна лишь тогда, когда данный язык попал на чужбину. Отсутствуя в семье, он стал достоянием только взрослых ученых и притом исключительно мужчин. Начиная его изучение сравнительно поздно, и притом по книгам сокращенной транскрипции по отношению к гласным звукам, они естественно произносили звук а, как самый первоначальный у людей, везде, где сомневались в произношении, и накопили, наконец, его в чрезмерно огромном количестве. Возможно, что в него перешло и первоначальное ы, отсутствующее в современном санскрите, но частое в славянских языках, с которыми он обнаруживает большое сходство по корням слов.
Возьмем хотя бы некоторые из славянских слов, которые вошли в санскрит.
Вот хоть его числительные:
1—эка, русское экий,
2—два, русское два,
3—три, русское три,
4—чатур, русское четыре,
5—паньча (польское пенць, греческое пенте, русское пять),
6—шашь, русское шесь (шесть),
7— сапта, латинское септем и, славянское седемь (седмь, семь),
8—атта, италийское отто,
9—нова, италийское нове,
10— дэша, русское десять, италийское дьечи,
20—виншять, италийское venti с прибавкой славянского окончания цать.
30—триншят, русское тридцать,
40—чатвариншят, славянское четвердесять,
50—панцашят, русское пятьдесят и т. д.
Мы видим, что слово четыре здесь перешло в чатур, пенць—в паньча, шесь (шесть)—в шашь, септем в сапта, отто в атта и т. д. Везде е или о перешли в а, путем регрессивной эволюции, откуда видно, что никак не европейские говоры расчленили санскритское а на разные другие звуки и что совсем неправильно утверждение первых санскритологов, будто европейские языки пришли к нам из Индии, а не сами в нее вошли, смешавшись между собою.
Точно так же приняло звук а вместо других звуков и множество других европейских слов, вошедших в санскрит: путь перешел в пать (или в пата), мед в маду, мера (метр)—в матра, огонь в агни, латинское дэус (бог) в дэвос, номен (имя) в намен, датель (даватель) в датар, матерь в матар, греческое атем (дыхание) в атман, латинское ювен (юноша) в юван, едящий (едатель) в адат, бывающий (быватель) в бават, рэгс (царь) в раджу (рачжу), мог-учий (могий) в маг, откуда и магия. Томиться перешло в там, утратив славянское окончание; греческое местоимение эгò (т. е. я) преобразовалось в агам (aham), предлог пред перешел в пра, предлог против в прати и т. д. А те слова, у которых в корне был звук а, так и сохранили его без повреждения : дать лишь сократилось в да, падать в пад (==пат), трясти в трас; латинское навис (корабль) обратилось в наус, ведающий (ведун) в ведвана, и прочее, и прочее, и прочее.
Отсюда ясно, что санскрит есть конгломерат славянских, греческих и латинских слов, которые туда могли придти только с христианскими миссионерами и с их богослужебными книгами, а регрессивная эволюция этих языков в Индии, с переходом самых разнообразных их гласных звуков в упростительное а едва ли требует еще новых примеров, так как сам читатель может набрать их сколько угодно, просмотрев санскритский словарь.
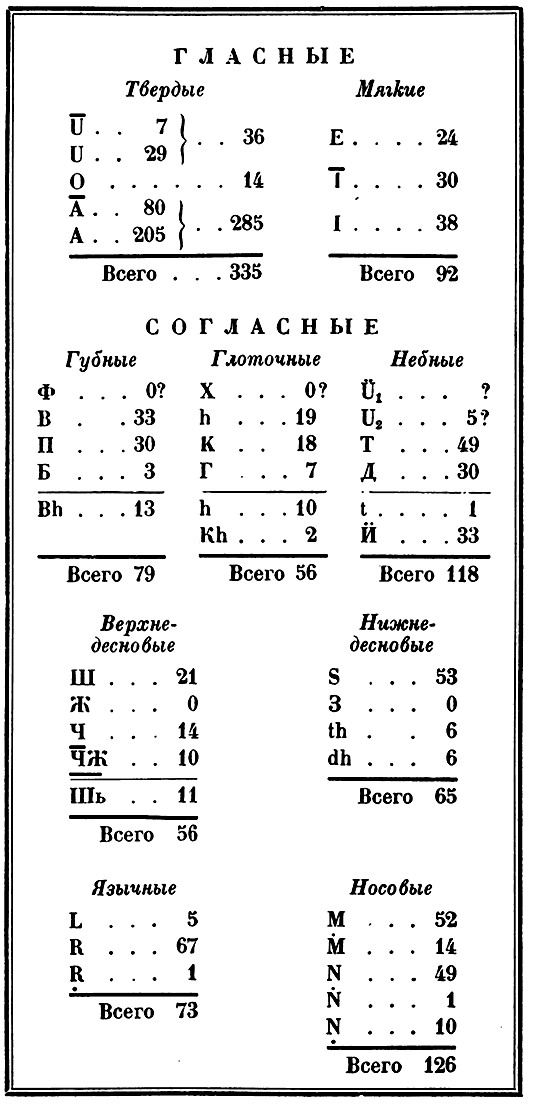
Точно также и в основных деталях произношения звуков речи, и в грамматике санскрит обнаруживает явные следы европейского происхождения, а не местных индусских народных говоров. Относительно процентного содержания звуков речи я нашел в первой песпи «Наля и Дамаянти» (1—13) соотношения, показанные на таблице XXIV, при чем я оговариваюсь, что это лишь произношение западно-европейских санскритологов, на правильность которого нельзя вполне положиться.
В словах, оканчивающихся на согласный звук, все гулкие звуки перешли в шопотные, Д в Т, Б в П и так далее, совершенно как в русском языке, где слово мороз мы произносим морос, лоб—лоп и т. д.
Санскрит, как и славянский язык, имеет три рода и восемь падежей. Имена мужского рода оканчиваются в нем, как в греческом, на -s, а женского, как в русском и итальянском, на -а. Но насколько такие лингвистические следы могут служить надежными руководителями для установления древних передвижений народов? Конечно, они годны лишь тогда, когда подтверждаются и другими соображениями.
Представим себе, что, например, какой-нибудь археолог наших дней, позабыв все, что говорят нам русские летописцы, захотел бы восстановить «доисторическую» жизнь северной России, руководясь названиями ее городов и местечек и фамилиями ее жителей.
Вот перед нами старый Петроград и прежнее название его—греческое и значит—Каменный город; вот Архангельск и имя его тоже греческое—оно значит Верховный Вестник; вот Петрозаводск—Каменный завод. А среди мелких поселков наш археолог находит целую массу названий тоже все греческого корня, в роде сел: Николаевское (народо-победное), Демьянское (посвященное римской богине Дамии), Андреевское (мужественное) и так далее. Чуть не четвертая часть всех местных названий явно греческого корня!
Исследователь обращается к фамилиям жителей, которые они «сохранили с незапамятных времен», и тоже видит массу явных греков: Ивановых, Петровых, Сидоровых, Карповых и т. д. Все—чисто греческие фамилии; да и в личных именах нет почти ни одного русского, кроме Владимира да Надежды с Любовью, так как даже имя Вера—латинского корня. Повсюду живут в России почти одни греки, несмотря на их современный русский язык.
И вот он заключает, что в древние, до-исторические времена на всем севере России жили только греки с легкой примесью латинян, а потом, благодаря постепенному охлаждению страны, они, как более культурные и изнеженные, постепенно отодвинулись к югу, оставляя на своих прежних местах смешанную расу, более выносливых русских.
И однакоже мы знаем, что на деле не было ничего подобного. И еслиб даже кто-нибудь сказал, что все эти бесчисленные греческие имена и названия северной России были результатом культурного влияния греческих колонистов на эту страну, то он и в этом утверждении ошибся бы жестоко. Ни один грек никогда не ступал сюда своей ногой вплоть до времен Иоанна Грозного, когда в северную Россию могли уже заезжать отдельные греческие путешественники, не имея тут, однако, никакого культурного влияния.
Все эти имена, как мы хорошо знаем, были результатом не непосредственного соприкосновения с греческой культурой, а только старинной русской модой на все греческое, как отдаленный отголосок высшей греческой культуры средних веков.
Благодаря развитию христианства, пришедшего из Византии, установилась мода давать детям греческие имена, подобно обычаю тогдашних привилегированных классов одеваться в платье греческого фасона. Вот и все. Греческие имена перекинулись на самый север России не с пришедшими туда людьми, а поочередно передавались от человека к человеку, подобно тому, как электроны передаются от молекулы к молекуле, или скорее подобно волнам, распространяющимся путем упругого контакта вечно качающихся на своих местах молекул воды от места наибольшей упругости своего давления к наименьшим, и никогда не наоборот.
Точно так же распространились по России и обряды христианского богослужения, и письменность среди духовенства. Распространение от центра наивысшей упругости к менее упругой периферии, это—общий закон не только стихийных физических явлений, но и социальных: все жизненные культурные новшества зарождались в центрах культурной жизни, а все новшества, возникавшие на периферии, скоро замирали или приносили для своей страны лишь отрицательные результаты, показывая другим то, чего не нужно было делать на данной стадии культурного развития человечества.
Христианскую культуру (может-быть, в виде только евангелий Марка да Иоанна) занесли в Россию даже и не греки, а балканские славяне. Предполагаемые творцы славянской письменности Кирилл (ум. 869 г.) и Мефодий (ум. 885 г.), по мнению славянских исследователей XIX века, Погодина, Иречека и других,— были настолько же греки, насколько и русские Иваны и Петры. Это были болгары, или, по мнению других, паннонские славяне, жившие на Балканском полуострове вперемежку с греками и отчасти с румынами и итальянцами, как живут и до сих пор, и выработавшие, благодаря ежедневному контакту этих народов между собою, общую культуру. В ней, вероятно, принимали одинаковое участие все народы Балканского полуострова, и славяне должны были играть в ней особенно выдающуюся роль как при наследниках «Александра Македонского» (которого я имею причины отожествлять с Александром Севером, около 222 г. нашей эры), так и при последующей Иллирийской династии Юстиниана с 518 года и при Македонской династии в Византии с 867 года нашей эры. Придворные этих царей, вероятно, чаще говорили между собою по-болгарски, албански и славянски, чем по-гречески, хотя подобно нам и носили греческие имена и писали большею частью по-гречески, как в Западной Европе писали по-латыни.
Этим обстоятельством я и объясняю проникновение многих славянских слов даже в «старозаветную» Библию, о чем я уже говорил не раз при ее разборе, и этим же, а не передвижением целых народов из Европы через Иран в Индию, я объясняю и появление в Индии санскритского языка.
О множестве совпадений коренных санскритских слов не только с греческими и латинскими, но и со славянскими, говорилось в филологической литературе уже так много, что мне нет надобности их повторять.
Жаколио, который за свои антиклерикальные выпады и некоторое увлечение беллетристикой совершенно напрасно объявляется чистым фантазером (он действительно прожил много лет в Индии и несомненно был в близких сношениях с браминами), вывел из санскрита в своей книге «La Bible dans l'Inde» основы чуть не всей классической литературы европейцев. Вот для курьеза некоторые из его отожествлений в этой книге, которая, по моему мнению, не многим уступает книге Делича: «Bibel und Babel», хотя и не пользуется таким уважением из-за нападок на христианскую религию (делаю оговорку, что я не проверял эти слова сам, по словарю):
Имя Нептун созвучно с На-пата-на (na-pata-na)—повелитель ярости волн.
Другое его имя, Посейдон, сходно с Паса-уда (pasa-uda) —успокоитель вод.
Имя Марс сходно с Мри (mri)—умертвитель, как и по-русски—мор, по-латыни mors и по-французски mort (а мне кажется, что это ближе к итальянскому morso—укус, удило).
Имя Плутон сходно с Плушта (pluchta)—бьющий огонь.
Имя Юпитер сходно с Зу-Питри (Zu-Putri)—Зевс-Отец.
Имя Минерва—сходно с Ма-нара-ва (ma-nara-va)—поддерживающая сильных.
Имя Атенайя (Афина)—сходно с А-тана-я (a-tanaja)—бездетная.
Имя Паллас (Паллада) сходно с Пала-са (pala-sa)—покровительница мудрости.
Имя Пифагор созвучно с Пита-гуру (pita-guru)—школьный учитель.
Имя Анаксагор—созвучно с Ананга-гуру (ananga-guru)—учитель духа.
Имя Протагор—созвучно с Прата-Гуру (prata-guru)—учитель всезнания.
Имя Геркулес—созвучно с Гара-кала (hara-cala)—герой битв.
Имя Тезей—созвучно с Та-саха (tha-saha)—союзник.
Имя Андромеда—созвучно с Анда-ра-меда (And-hara-meda)—пожертвованная страсти бога вод.
Имя Персей—созвучно с Пара-сага (para-saga)—помощь во-время.
Слово Центавр (Кентавр)—созвучно с Кентура (Kenturu)—конь-человек.
Имя Артаксеркс (персидское Ардашир)—созвучно с Арта-Ксатриас (arta-xatrias)—архи-царь.
Имя Зороастр (Заратустра)—созвучно с Суриа-Стара (suria-stara) —миссионер солнца.
На основании таких совпадений автор (предваряя современных исследователей лет на восемьдесят) выводит из Индии не только всю греческую мифологию, не и само христианство, и самую Библию считает родившейся в Индии, так как там есть на Цейлоне и Адамов Пик, и мост в виде торчащих из воды скал, по которому, по местному сказанию, изгнали Адама из цейлонского рая на континент.
Но само собой понятно, что такой всеобщий извод населения Европы и ее культуры и религии из Индии не удовлетворил позднейших исследователей, и появилась идея об обратном переселении.
Исходя, между прочим, из того, что слово береза имеет тот же корень и в русском, и в санскрите (burjah), и в литовском (bersas), и в немецком (Birke), заключили, что родина арио-европейцев есть область березы, т. е. умеренный пояс Европы, к чему привело и существование одного и того же корня для названий волка, зимы, снега, меда.
Такие же созвучия в названиях собаки, коровы, овцы, козла, коня и домашних растений—ячменя, полбы, или предметов хозяйства: ярма, повозки, оси, колеса, лодки, весла, кожи, топора, привели к заключению, что родоначальники санскрита до расселения из средней Европы уже обладали значительной культурой. Однако, как ни вероятно возникновение нашей европейской культуры как раз в средней Европе и потом на берегах Средиземного моря, однако миграцию слов нельзя соединять с миграцией масс населения: слова распространяются, как мы видели сейчас, много легче и быстрее. Припомним только современное быстрое распространение греческих названий в научных языках всего земного шара. С этой точки зрения и «искусственный язык» современных ост-индских священнослужителей Иезеуса-Кришны, сына девушки, зачавшей от святой троицы (Тримурти), есть только пережиточный конгломерат церковно-славянского, церковно-греческого и церковно-итальянского (латинского) языков на чужбине. Такие конгломераты всегда образуются в странах, где говорят на двух или трех разных языках. Дети всегда начинают перепутывать между собою разноязычные слова. Так, в русских семьях после бегства из Москвы Наполеона I, когда появились всюду гувернеры из его попавших в плен воинов, сейчас же образовался особый франко-русский язык, которым и говорили светские дамы почти до конца XIX века и который дал повод к пародиям, в роде известной поэмы «Мадам де Курдюков», или институтских куплетов в роде:
Regardez, ma chère сестрица,
Quel joli идёт garcon!
Нам пора остановиться
И итти à la maison
Этот жаргон не развился в особый язык только потому, что наполеоновские воины-гувернеры постепенно вымерли и, кроме того, собственная русская изящная литература, благодаря Жуковскому и его современникам, уже выработала свой, закрепленный обязательным школьным преподаванием, национальный язык. Низшая и средняя школы—это единственный закрепитель национальных литературных слов и оборотов речи, а высшая школа, наоборот, их разрушитель и интернационализатор языков. Возьмите, например, любую нашу научную книгу, и вы на каждой ее странице найдете фразы в роде следующей:
«При гистологическом исследовании организма встречаются патологические трансформации его тканей».
Если вы человек образованный, то вы ни мало не сомневаетесь, что читаете это по-русски, а для необразованного это не лучше, чем вышеприведенное стихотворение: «Regardez, ma chère сестрица,». Здесь русских слов только пять: «при» «исследование», «встречаются», да «его тканей», а все остальное греко-латынь. Да и последнее из пяти русских слов «ткань» употреблено здесь не в его национальном и литературном, а в своеобразном физиологическом значении.
В философских трактатах вы увидите этот конгломератный язык русских ученых еще в более ярких формах и, сравнив его с современным языком изящной русской литературы, вы подумаете, что оба принадлежат к двум разным культурным периодам развития русского языка.
Вот хотя бы первое пришедшее мне на ум общеизвестное стихотворение того же XIX века:
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда
и т. д.
Где здесь хоть одно греко-латинское слово? Пересмотрите всю нашу изящную литературу, и если вы увидите в каком-либо ее стихотворении после Третьяковского или в каком-либо беллетристическом произведении (до футуристов, или поэтов науки, в роде меня) какое-либо греко-латинское слово, то всегда лишь как редкое исключение.
Какой же отсюда вывод? Только тот, что если на каком-либо древнем языке коренной состав употребляемых слов различен в научных и литературных творениях, то это еще не значит, что они писаны в разные эпохи.
А между тем такие выводы были сделаны прежними историками и для санскритской, и для греческой литературы, и пережитки таких взглядов существуют у нас, нередко бессознательно, до сих пор.
Ост-индские «Веды», например (т. е. «Ведения» по-русски), считались долго и мной самим более древними, чем драмы и поэзия индусов, хотя в таком случае пришлось бы, как мы только-что видели, допустить (сравнивая современную русскую научную литературу с современной беллетристикой по их языкам), что и русская наука предшествовала русской беллетристике и была до нее даже за много веков, когда русский язык еще не обособился вполне от греческого.
Вы сами видите, что с чисто наблюдательной точки зрения, когда нами руководит реальный жизненный факт, искусственный язык индусских священников проще всего принять не за первобытный, а за конгломератный язык бросившихся туда, как я уже сказал, славянских, греческих и латино-румынских проповедников Кришны-Христа.
Этот-то язык первых ост-индских грамотных людей и развился при преемственной передаче привезенных ими с собой латино-греко-славянских книг в самостоятельный жаргон. Обрабатывая на нем религиозный и научно-философский багаж, принесенный с Запада посредством привившихся к нему местных представлений, возникшая жреческая каста породила самостоятельную богатую литературу в Ост-Индии, аналогичную той, которую создал тот же греко-итальянский (латинский) язык на западно-европейской почве в средние века и особенно в эпоху Возрождения.
Здесь я опять особенно хочу отметить еще не указанную никем огромную роль, которую играли в византийской культуре славянские народности Балканского полуострова.
Живя между греками, они одинаково хорошо владели и греческим, и славянским языками. Они легко усваивали италийский, и в этой способности к иностранным языкам, характеризующей и современные славянские народы, было их большое преимущество над другими и в то же время большой недочет. Все способные к наукам и имевшие средства для их изучения славянские юноши отправлялись в Софийское, Адрианопольское или Константинопольское книгохранилища, при которых всегда были школы, и там прежде всего знакомились с греческой литературой. У них составлялось представление, что только на этом языке и возможна истинная поэзия и истинная наука, для которой на их собственном языке не выработалось даже и терминов. И это представление еще более укреплялось, когда они, окончив образование в Афинах, посещали Италию, в которой культурными центрами были тогда старо-греческие, полуассимилировавшиеся с местным итальянским населением, колонии Лациума близ Неаполя и в Сицилии, уже превратившие тогдашний местный итальянский язык,—почти тот же, что и теперь,—в ту самую смесь итальянского с греческим, которую мы называем теперь латынью (языком Лациума).
Я не знаю, было ли обращено лингвистами внимание хотя бы даже на то, что греческий определенный член ho, he, to (ό, ή, το) есть только применение к первобытному греческому, чисто суффиксовому языку славянского местоимения тот, та, то для обязательного выражения определенного смысла употребляемых существительных, чем даже злоупотребил классический греческий язык, прилагая этот префикс и кстати, и некстати даже к прилагательным.
Ведь этот член тот, та, то и до сих пор существует в балканских славянских языках, но явно пришел не от греков, так как только у славян он имеет самостоятельный смысл, а на греческом обратился лишь в формальную приставку. А между тем это очень существенное указание, так как в греческом придыхательные члены именительного падежа (ho, he) меняют свое придыхание на Т в остальных падежах, показывая, что и тут были ранее тот и та.
Мне нет здесь нужды приводить все остальные многочисленные доказательства влияния славянских языков на древне-греческий, так как для моей цели много важнее указать на влияние греческого языка на славянские, в котором, конечно, никто и не сомневается. Ведь у нас существуют даже целые словари иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Из этих словарей сразу видно, что коренной лингвистический состав слов интеллигентного русского человека более чем удвоился на греческий счет, и если наша грамматика еще не подвергается таким же нововведениям иностранных форм речи,—(кроме разве предлога а ля (à la),—то лишь потому, что она, подобно орфографии и азбуке, искусственно удерживается,—как я уже и говорил,—современной средней и низшей школой в национальных границах. И я прибавлю от себя, что об этом можно даже и пожалеть, так как некоторые иностранные формы, в роде определенного и неопределенного членов и различных отсутствующих в русской грамматике оттенков времени при спряжениях глаголов, делают европейские фразы более колоритными.
В древности не было еще таких искусственных оград, а потому в соприкасающихся языках конгломерировали не только корни слов, но и грамматические формы и обороты речи. В одних случаях они осложняли фразы, в других урезывали язык, а потому и преподававшийся в наших школах греческий классический язык не есть ни первоначальный язык ионийских греков, ни родоначальник псевдо-ново-греческого языка, а во многом его сын. И он не менее отступил от первичного вульгарного языка греков, чем латинский от итальянского, и так называемые «различные периоды его развития» представляют лишь местные вариации той же самой сравнительно поздней эпохи.
Правда, что славянской литературы, такой же богатой произведениями, как и греческая, не образовалось на церковно-славянском языке, но это только потому, что, как я уже говорил, все балканские образованные славяне так же хорошо знали литературный греческий язык, как и свой собственный, и писали на нем, а не на церковно-славянском, вплоть до того времени, когда Кирилл и Мефодий (не бòльшие греки, чем мы), взявши коптскую азбуку, как образец, перевели, против воли тогдашних грамотеев, некоторые из священных книг на свой язык.
Это относилось уже к тому периоду, когда стали одно за другим появляться и евангелия, тоже на греческом языке, хотя может-быть первый из евангелистов Марк и назывался в детстве своими родителями по-славянски Марко.
Ведь греческие имена восточных религиозных писателей так же мало говорят нам о греческом происхождении носивших их людей, как и наши собственные, тоже греческие, имена.
Точно так же и предания о Кирилле (Константине) и Мефодии рассказывают нам, что они оба были уроженцы славянского города Солуни в Македонии и притом аристократического происхождения: Кирилл был товарищем по учению одного из сыновей императора Михаила III, а потом библиотекарем Софийской библиотеки, когда фактическим правителем государства был уже славянин Василий Македонский, захвативший престол в 867 году, за три года до смерти Константина-Кирилла. Мефодий же, старший брат Константина-Кирилла, жил,—говорят нам,—до 885 года. Сначала он был на военной службе, потом правителем одного славянского княжества, и он-то вместе с братом,—как говорят,—перевел евангелие и некоторые другие книги с греческого на славянский язык.
Его попытка образовать национальную славянскую литературу была встречена враждебно тогдашними учеными, как попытка профанировать теологию—науку, истины которой могли быть обсуждаемы только посвященными в их тайны на латинском и греческом языках. Мефодий отправился тогда в землю паннов (Паннонию) в задунайской части Моравии, потом в Чехию, где тоже начались на него гонения за вывод теологической премудрости из пределов классических языков на славянскую улицу, и он был даже заточен на некоторое время в одном из швабских монастырей.
Мы видим отсюда, что выведение тогдашней науки и литературы из границ греко-латинской письменности было не так-то легко даже и в IX веке нашей эры и что благодаря этому среди классических греческих произведений, может быть, целая половина, если не более, принадлежит работе славянской мысли, подобно тому, как более половины книг, написанных по-латыни на Западе, принадлежит не итальянцам, а германцам, французам и англичанам.
Еще более труден был переход от такой религиозной письменности к национальной литературе в Индии с се сплошь безграмотным тогда и разноязычным населением, когда отголоски славянского гения и славянских заблуждений в византийский период жизни Востока достигли, наконец, как я старался показать выше, и до пределов отдаленного Индустана.
Мы легко приходим отсюда к выводу, что первоначальную касту ученых-жрецов Тримурти-Троицы и ее сына Иезеуса-Кришны образовали в Индии именно славяне, и что, следовательно, каста словесников (браминов) там не такая уже древняя, как думают ее современные жрецы по обычаю всех остальных священнослужителей.
Понятно, что, возникнув первоначально из ученых переселенцев Запада, эта священническая каста в Индии постепенно национализировалась, но осталась замкнутой в самоё себе, тщательно оберегая тот смешанный славяно-греко-итальянский язык, который она унесла с собою и который ее дети, или внуки, признали священным языком своих предков, единственным, на котором серьезный человек может говорить и писать о высоких предметах.
Все было здесь по тому же шаблону, как и в Западной Европе при распространении католицизма через Италию из той же Византии на греко-итальянском (латинском) языке.
Прием нового бога всегда совершался политеистическим населением в высшей степени охотно, а новая идеология всегда была достоянием лишь ее специалистов. Она не отвергалась населением, пока не затрагивала существенных экономических или бытовых интересов физически-трудящихся масс и пока сама приспособлялась к их национальному быту, как и происходило при распространении всех религий, несмотря на их стремление стать общечеловеческими.
— Но точно ли,— скажут мне,— в начале средних веков существовал такой же Drang nach Osten христианских проповедников из Византии, как и их Drang nach Westen?
Спрашивать это так же неуместно, как сказать: будет ли газ при взрыве в свободном пространстве стремиться распространяться во все стороны, или только в одну? В самом вопросе заключается и его решение. Распространение во все стороны неизбежно, а потому и единобожие в момент своего вулканического взрыва у подошвы Везувия должно было с одинаковым напором стремиться и на запад, и на восток, и на север, и на юг и проникать везде и всюду, где еще существовало язычество. Появившееся в VII веке магометанство было лишь следующей, вторичной волной того же землетрясения, подготовленной первою, уже пронесшеюся через Аравию и Сирию. И новая волна тоже хлынула (может-быть от землетрясения) в Сирии и на запад и на восток, и на север и на юг, но нигде не догнала первой. Обратив к вере Магомета Западную Азию и Северную Африку, она не покрыла вполне ни «Христа» в Европе, ни «Кришну» в Индии, ни «Будду» в Тибете.
И это не одна мои предположения. Мы имеем и исторические указания, сама легендарность которых обнаруживает их древность.
Греческие теологи нам говорят, что христианство в Индии было заложено Фомой, учеником самого «Спасителя», будто бы жившего в I веке нашей эры.
Но мы уже знаем, что основателем христианского богослужения был Великий Царь (Василий Великий) и временем его богослужебных реформ была вторая половина IV века. В соответствии с этим и христианство первых веков нашей эры в Ост-Индии, вместе с его проповедником Фомой (имя которого значит Близнец), оказывается лишь апокрифированием событий V века.
В соответствии с этим является и сказание об обращении Индии в христианство не христовым «Близнецом», а Сыном Ламы (Вар-Ламом) и Судьей Громовержца (Иоасафом), которое я нарочно привожу в том виде, каково дано в «Житиях Святых».
«Есть на Востоке,— говорит нам эта книга по Иоанну Дамаскину,— зело великая и многонародная страна, нарицаемая Индией, изобилующая паче всех иных стран всякими богатствами и плодами, окруженная морскими пучинами и соприкасающаяся на суше с персидскими пределами. Она некогда была просвещена святым апостолом Фомой, но не оставила идольского нечестия и прелестей бесовских. Она (будто бы!) отступила от истинной веры. И возрастало в ней нечестие, как терние, и подавляло оно (еще не существовавшее в то время!) доброе семя благочестия. Наконец, восстал в той стране некий царь, именем Отец Света (Авенир), и служил бесам и поклонялся «воздушным идолам».
«Но в это самое время пришел туда монах Сын Ламы (Вар-Лам) и обратил в христианство его сына Иоасафа (Судью Громовержца), который вслед за тем окрестил и большинство индусского народа».
Мы видим, что повествование о крещении Индии Судьею Громовержца совершенно аналогично повествованию о крещении Руси Владимиром святым: проповедник обратил в свою веру властелина страны, а этот приказал принять ее и всему своему народу. Способ вполне естественный: так было и везде. Вслед за Сыном Ламы (или, если хотите, «Близнецом» Фомой), в просветленное царство хлынули многочисленные проповедники Кришны-Христа из Византии и, принеся с собой смешанный греко-латино-славянский язык своей родины для целей богослужения и письменности, прочно осели по стране, образовав там священную касту «служителей бога-Слова», и создали потом на нем такую же литературу, как и классическая на латинском.
Мы видим, таким образом, что рассказ о крещении Индии по образцу крещения Руси заслуживает серьезного исследования, тем более, что параллельно с греческим текстом он существует издревле и на арабском языке.2 Прочтем же его и далее по «Житиям Святых».
2 Академик С. Ф. Ольденбург. Арабский перевод сказания о Вар-ламе и Иоасафе. «Изв. Академии Наук».
«Как только,— говорят нам они,— у «Отца Света» родился сын, безмерная телесная красота которого предвещала имеющую быть такую же красоту душевную, он собрал волхвов и астрологов и вопрошал их:
«— Чем будет этот родившийся ребенок? «По многом, рассмотрении звезд они сказали, что он будет больше всех царей, бывших до него. Мудрейший же из звездочетов, вдохновившись не от звездного течения, а от откровения святого духа сказал:
«— Думаю, что он примет гонимое тобою христианское учение» (которого, как говорит сам автор, уже не было тогда в Индии).
Чтоб не исполнилось такое неприятное для него пророчество, преподобный царь Аб-Енир построил для сына уединенный огромный дворец и запретил слугам впускать к нему кого бы то ни было из посторонних, и, кроме того, никто из приставленных к нему слуг не должен был говорить при нем ничего печального, а только одно веселое и хорошее.
Так Иоасаф достиг юношеского возраста, никогда не выходя из своего дворца и не видав никаких человеческих, бедствий, но «научился всей эфиопской и персидской премудрости». Раз он спросил своего отца:
«— Зачем ты заключил меня внутри этих стен и сделал меня невидимым?
«— Я не хочу,— ответил отец,— чтобы ты видел что-либо могущее опечалить твое сердце, а жил бы здесь в непрерывной сладости и весельи.
«— Твой затвор мне делает не радость и веселье, а скорбь и печаль,— отвечал ему сын.— И если ты не хочешь, чтобы я умер с горя, то позволь мне ходить, куда хочу, и увеселять мою душу виденьем того, ч"его я не видал до сих пор.
«— Пусть будет по твоему желанью,—ответил опечаленный царь.
«Он позволил ему выезжать, но запретил спутникам показывать ему какую-либо нищету и скорбь, а только одно хорошее и красивое, и всегда сопровождать его с пеньем и плясками.
«Однажды, когда его слуги зазевались, он, проезжая на коне, увидел прокаженного и слепого. Он спросил, что это значит, и ему объяснили, что таковы человеческие болезни.
«— Бывают ли они у каждого?—спросил он, и ему отвечали, что не у всех.
«Другой раз он увидел дряхлого старца, и ему объяснили, что это доля каждого живущего человека, если он не умрет ранее.
«Тут он впервые услыхал о неизбежности старости и смерти. «Он уехал печальный в свои дворец и там предался мыслям о том, как было бы можно избежать смерти. И бог помог ему в этом.
«В Сенаридской пустыне жил тогда некий христианский священник Вар-Лам. Узнав от осенившего его святого духа о состоянии принца Иоагафа в Индии, он сел на корабль, переодевшись купцом, и приехал в его город.
«— У меня есть драгоценный камень, подобного которому нет на свете,—сказал он евнуху царевича.—Он дает слепым зрение, глухим слух, немым речь, а больным здоровье, изгоняет бесов и дает разум не имеющим его. Посредством его все можно получить, и я хочу подарить его твоему принцу.
«Евнух привел его к Иосафату, и Вар-Лам ему сказал:
«— Все, что я говорил твоему слуге,—правда, но, прежде чем дать тебе мой камень, надо подготовить к нему твою душу.
«И он начал говорить ему о едином боге, о праотце Адаме и его изгнании из рая, об искуплении людей воплотившимся сыном божиим и о бессмертии души.
«— Я понял,—ответил ему царевич, когда он кончил,— что это и есть твой драгоценный камень.
«И он не хотел более отпускать от себя Вар-Лама. С этого времени исчезла его печаль и страх смерти. Он захотел тотчас же поступить в монахи, но Вар-Лам уговорил его остаться пока в своем высоком положений, чтобы лучше послужить богу.
«— Хочешь ли быть сыном божьим?—сказал он,—и прочел ему (будто бы) Символ Веры в том же виде, как мы читаем его и теперь, но с соответствующими толкованиями в средневековом стиле, и окрестил его.
«В это самое время один из сторожей, Зардан, заподозрев, что Вар-Лам христианин, стал уговаривать царевича прекратить свидания, а Иоасаф вместо ответа пригласил его послушать, укрывшись за драпировкой, поучения Вар-Лама, думая, что и он убедится в правильности его веры. Однако, Зардан не убедился и пригрозил сообщить царю. Вар-Лам заблаговременно уехал домой, «оставив на память царевичу свою ветхую власяницу». Иоасаф стал «так усиленно молиться, надевая ее вместо рубашки, что опечаленный Зардан заболел с горя». Встревожившийся царь послал к нему врача, но врач не мог узнать причины его болезни, и сам Зардан пришел к царю и покаялся со слезами в своем упущении. Царь позвал к себе первейшего, из своих вельмож Арахию, «премудрого советника, искусного в астрологии», и сообщил ему все случившееся.
«— Будь беспечален, царь!—ответил ему астролог.—У меня есть старец Нахор, живущий в пустыне и научившийся звездочетству и всякой магии. Повели ему принять вид Вар-Лама. Мы будем спорить с ним в присутствии царевича о вере, и Нахор даст нам средство опровергнуть себя и сам согласится с нами.
«Он пошел в пустыню к Нахору, жившему там вместе с бесами, и умолил его превратиться в Вар -Лама. Чтобы лучше-сделать дело, он послал потом воинов схватить его и привести к царю, как будто действительного Вар-Лама.
«Царь повелел тогда собрать большой собор из всех индусских мудрецов для спора с лже-сыном Ламы, чтобы решить, кто из них прав. К нему пришли все персидские, халдейские и индийские волхвы в чародеи, хитрые в своей неправде.
«Царь сел на престоле, и волхв Нахор был тоже приведен туда в виде Вар-Лама.
«— Защищайте каждый свою веру!—сказал им царь.—Но знайте, что тех, которые будут побеждены, я погублю мечом и дам их тела на съедение зверям.
«Царевич, услыхав это, обрадовался и, зная от святого духа, что перед ним не Вар-Лам, а Нахор, специально погрозил ему и от себя, говоря, что лично отрубит ему голову, если он будет побежден. «Нахор так испугался его угрозы, что вдруг, подобно Валааму, приехавшему к Валаку на ослице проклинать Израиля, но проклявшему вместо того его врагов, обратился в такого мудрого защитника христианства, что посрамил всех жрецов. Рассерженный царь вымазал им сажей головы за плохую защиту своих богов и выгнал вон, нанеся много побоев, а с Нахором ничего не мог сделать, потому что его оставил у себя на ночь царевич, который утром дал ему, превратившемуся вдруг в христианина, возможность убежать к себе домой».
Но и сам царь уж не знал после этого спора, к какой вере пристать ему самому. Жрецы же, вымыв свои начерненные сажей лица, обратились за помощью к волхву Феуде, «пребывавшему тогда тоже в пустыне с бесами». Феуда, взяв с собой множество бесов, пришел к царю и сотворил с ним большой праздник бесам. «А лукавые, чувствуя здесь свое собственное бессилие против Христа, посоветовали царю обратиться вместо себя к женщинам:
«— Замести,—сказали ему бесы через Феуду,—всех слуг царевича одними юными красивыми девицами и предоставь им соблазнить его».
Царь так и сделал, и царевич,—уверяют нас «Жития»,—«убедился, что женщины много опаснее бесов».
«Одна из них, пленная царевна, самая прекрасная из всех, особенно прельщала Иоасафа, и один из бесов научил ее мудрой беседе, чтобы особенно очаровать Иоасафа не только телом, но и духом.
«Она сначала обещала ему сделаться христианкой, если ов вступит с нею в супружество», и будто бы говорила ему:
«— Разве не велел бог людям плодиться и размножаться? Разве пророки и святые и сам Петр не жили со своими женами?»
Не успев убедить его на законный брак, она предложила ему, наконец, «проспать с нею только одну ночь, потому что на небесах бывает больше радости об одном кающемся грешнике, чем о многих праведниках, а она уже непременно раскается и после этого примет христианство».
«Все бесы возрадовались, слыша такую убедительную речь. А Иоасаф, не зная, что возразить, в отчаянии бросился на землю и стал о нее биться, но тотчас же заснул. Он увидел во сне райский сад со святыми и под ним бесовский ад с грешниками и так пленился первым и испугался второго, что, проснувшись, вдруг почувствовал, что «вся женская красота»,—как выражается автор «Житий Святых» (синодское издание в Петербурге 1839г.),— стала для него «хуже кала и гноя».
Не трудно поверить после этого, что царевич,—как продолжают далее наши первоисточники,—сейчас же заболел (вероятно психически) до того, что обеспокоенный отец «увел от него всех дев, а бесы в отчаяньи сами убежали к своему волхву Феуде». И вот «Феуда, подстрекаемый бесами, пришел препираться с царевичем о вере, но был так посрамлен его ответами, что тотчас сам обратился в христианство и сжег все свои ученые книги к полному отчаянию бесов».
« Царедворец Арахия посоветовал царю отдать Иоасафу половину царства, чтобы он отвлекся от религии государственными делами», но и это мало помогло. Царевич согласился лишь с благою целью и, «получив свою половину, тотчас же разорил в ней все языческие храмы, заменив их христианскими» и вскоре привел в чувство и самого своего отца. Окрестив его лично, он, «таким образом стал ему вместо сына отцом». Когда Аб-Енир наконец, умер и все царство было приведено в христианскую веру, Иоасаф тайно бежал от своих подданных в пустыню, завещав им поставить вместо себя царем «Сына святого» (Бар-Ахию).
По дороге в пустыню напали на него бесы, смущая разными помыслами, устрашая привидениями. Они являлись ему черными, скрежеща зубами, устремлялись на него с мечами в руках, принимали образ змей, зверей и аспидов, но он легко их прогонял «мечом крестного знамени».
«Он пришел к Вар-Ламову вертепу уже весь, как и Вар-Лам, обросший волосами, и оба они (волосатые) обнялись со слезами и долго беседовали друг с другом. Они съели немного фиников, выпили воды из ручья и стали жить вместе, пока не умер Вар-Лам. Оставшись одиноким, Иоасаф отслужил над ним литургию (неизвестно чью, Василия Великого или Иоанна Златоуста) и зарыл его тело в землю». Потом он умер и сам, на 85 году жизни 19 ноября, «оставив свое земное царство 23 лет и пробыв в пустыне еще 60 лет».
Такова самая ранняя легенда о проникновении христианства в Индию.
Я нарочно привел ее со всей сопроводительной беллетристикой, так как именно она и подтверждает древность сказания, суть которого заключается, конечно, лишь в том, что какая-то обширная область Индии (если не вся она) была обращена в христианство в средние века, по образцу крещения Руси Владимиром с призывом священнослужителей из Византии. Судя по «ставшимся в легенде собственным именам арабского корня, легенда эта попала в греческие святцы из еврейско-арабской литературы средних веков.
Нельзя отрицать правдоподобия в том, что христианство (или мессианство) в Индии было впервые одобрено в начале средних веков одним молодым местным царем, которому, будто бы, давали имя бог-Судия (Ио-асаф) того же значения как и Даниил. И я прибавлю к этому, что Вар-Лам и Иоасаф считаются и историками за действительно существовавшие личности, хотя время их средневековой жизни не определяется даже приблизительно.
Само собою понятно, что христианства в современном виде еще нигде не было даже и в начале средних веков, а было своеобразное мессианство, как раз то самое, которое вместе с помазанником Кришной принесло туда и тот славяно-латино-греческий язык, который, благодаря долгой изоляции, сильно приспособился к местным говорам и отлился, наконец, в современный санскрит. Легенда о Вар-Ламе и Иоасафе важна для нас тем, что она показывает на действительный религиозный захват Индии христианскими проповедниками в ее «доисторические» времена, хотя они и были уже историческими в Европе. Вар-Лам значит сын Ламы, т. е. по-тибетски сын Небесной Матери. А только-что рассказанная история детства Иоасафа чрезвычайно напоминает историю детства Будды, имя которого происходит от глагола будить и по-санскритски значит Пробужденный. Он называется сыном короля Сидгарта, и время его (из любви к древности) относят к VI веку до начала нашей эры.
Основой его учения, как и евангельского христианства, является отрицание сословий и жертвоприношений и утверждение, что бедные ближе всего к спасению. Он,—говорят нам,—никогда не считал себя богом, но его последователи возвели его после смерти в верховного бога и ввели в свою теологию, как и средневековые христиане Кришну и Христа.
Буддизм,—говорят нам,—будто бы возник в Индии еще в V веке до начала нашей эры, а наша поправка при его отожествлении с ламаизмом будет состоять лишь в том, что мы его отнесем к V веку после начала нашей эры, оставив фабулу той же самой и приравняв сущность учения к монофизитству.
Но первичная монофизитская христианская теология быстро распадалась в разных странах на ряд враждебных друг другу течений, и это быстро отразилось и на Ост-Индии.
Новое учение о божественной троице проникло и туда, а буддизм бежал в Монголию и Китай, заменяясь в Индии новым учением о Святой Троице и ее сыне Иезеусе-Кришне, т. е. Иисусе Христе.
И вот мы приходим к заключению, что эта новая фаза была принесена в Индию уже в средине средних веков, когда началось и в Европе евангельское учение, но в виде особой его отрасли—брамаизма. Бог-Отец европейских христиан получил здесь национальное имя Брамы, т. е. «Слова» как и в евангелии Иоанна, в котором оно встречается в первый раз, являясь результатом философских размышлений его автора, Иоанна Дамасского. Бог-Сын получил название Вишны и воплотился последний раз в Иезеусе-Кришне, т. е. в Иисусе Христе, подтвердив, таким образом, и евангельское утверждение, что Иисус существовал, как бог-Сын, и до своего воплощения, что говорится и в символе православной веры, где утверждается, что бог-сын, Вседержитель, был «рожден прежде всех веков» и только «воплотился в человеческом виде» посредством Девы Марии.
Более дифференцировалось от Европы здесь только представление о третьем лице божественной троицы—святом духе, Шиве, с титулом Мага-Дева, латинским Magnus Deus—Великий бог. Здесь нельзя даже сказать, в какой из двух стран это первичное латино-греческое представление о третьем олицетворении божества, о всеочищающем и всеразрушающем огне, эволюционировалось сильнее и более удалилось от первичного представления.
Это лицо православной троицы по самой своей сущности было наиболее пластично. Ведь огонь считался материализированным, по древним представлениям, во всех металлах, когда они выплавлялись из руд, и это учение было опровергнуто только в конце XVIII века основателем современной химии—Лавуазье.
Огонь же, по мнению древних, придавал и спиртным напиткам их жгучий вкус и опьяняющие свойства, опьянение смешивалось с вдохновением, и самое имя спирта (Spiritus) по-латыни значит дух. И вот, святой дух, сойдя на головы апостолов в виде языков пламени, дал в то же время повод и к объяснению причины их божественного вдохновения. Они заговорили, по мнению окружающих, на непонятных никому языках потому, что напились какого-нибудь спиртного (т. е. в буквальном переводе: духовного) напитка.
Вся эта смесь представлений о божественном огне, взятом с неба для людей по эллинской мифологии «Пророком» (Прометеем по-гречески), тоже «сыном Япета»,т. е. Юпитера, что в переводе и значит «сын бога-Отца», кристаллизировалась как в христианских религиозных представлениях о «святом духе-вдохновителе», так и в браминских представлениях о боге Шиве, соединение с которым очищает и разрушает все. Самый Прометей, т. е. по-русски пророк, с этой точки зрения есть легенда того же времени, к которому принадлежат и легенды о Кришне и Христе.
Соответственно христианским монахам разных орденов, и в Индии мы видим и факиров (по-арабски: бедных), и иогов—соединенных с богом, и саниассов—умерших для мира, и авадутосов—лежащих на берегах священной реки Ганга. Чем отличаются они от средневековых европейских столпников? И почему думать, что это эндемическое помешательство средних веков происходило в таких же формах еще раз в древности, будучи отделено от второго раза и территориально, и хронологически? Не проще ли предположить, что эта зараза один только раз, подобно кори, завладевала человеческим организмом лишь на определенном возрасте?
Что же касается до единства идеологической части у браминских и христианско-мессианских мифов и до единства их конструкции у обоих, то в этом нет никакого сомнения.
Большинство библейских легенд повторяется с некоторыми вариантами и прибавками и в браминских преданиях.
Первый человек, сотворенный богом—Словом—Брамой,— называется Адам, а жена его—Ева, при чем Ева и по-санскритски значит Жизнь, как и по-еврейски, но аллегория этого имени уже затемнена беллетристическими прибавками, чем и доказывается, что индусское предание заимствовано из Библии. Место действия (земной рай) перенесено на Цейлон, с которого бог запретил им выходить. Грехопаденье их состояло в том, что царь злых духов, из зависти к творениям бога-Слова, соблазнил Адама перейти на континент, вызвав перед ним мираж роскошнейшего сада с самыми соблазнительными плодами. И не Ева-Жизнь увлекла (у браминов) Адама к непослушанию своему творщт, а сам Адам увлек ее против воли, и именно потому обещанный искупитель их потомства должеи был произойти от нее одной без мужа.
Некоторые географические названия Цейлона и до сих пор приспособлены к этой легенде, как, например, Пик Адама и Адамов мост—гряда скалистых островков, соединяющих острове континентом через пролив. Однако, следует ли из этого вывести, что легенда об Адаме и Еве впервые возникла здесь?
Это было бы так же неосторожно думать, как и приписывать самой легенде цейлонское происхождение. Адам и Ева коренные еврейско-арабские, а не индусские имена.
Легенда о потопе тоже рассказывается в «Ведах» с несколькими вариациями, но имя Ноя переделано на индусский манер в Вайвасвату, который построил свой гигантский корабль по совету спасенной им чудесной рыбы. Эта рыба и возила его корабль по океану, как созвездие Дорады (Золотой рыбы) возит теперь по небу созвездие Корабля (рис. 49). Но астральный смысл легенды и здесь уже затушеван беллетристикой. Потом—по Ромацарьяру—является на сцену и арабский Отец Многих Народов Аб-Раам, превратившийся в Абунгарта. Он и здесь по повелению бога-Слова собирается приносить в жертву своего Сына, но Вишну, спустившись на голову юноши, в виде голубя, останавливает его руку.
Соответственно библейским пророчествам о рождении Иисуса, мы находим и индусские:
«Во чреве женщины примет форму человека луч божественного великолепия, и Дева зачнет ребенка» (из «Веданг»). «В первые годы царствования Кали-Йуга (Cali-youga) родится Сын Девы» («из Веданты»).
Кто такой этот Кали-Йуга? Мы уже отмечали поразительное совпадение многих санскритских имен с латинскими и греческими. Так и здесь невольно хочется видеть в Кали-Йуге Калигулу, хотя он и не предшествовал рождению Иисуса по обычной фиктивной европейской хронологии, а следовал за ним. Прибавлю, что обычное, не уменьшенное имя Калигулы было Калиг, что близко к Кали, а Иуга значит век. Предыдущий век индусских теологов, век «Дапара» (Dwapara), окажется тогда веком Тиберия, а два предшествующие им века «Трета» и «Крита» окажутся царствованиями Октавиана и Юлия Цезаря, с которого и начался по обычной традиции современный Юлианский календарь. Понятно, что с нашей точки зрения, отождествляющей Калигулу с Юлианом, время деятельности Кришны и по индусским источникам будет время Юлиана и его преемника Валента от 361 по 378 годы нашей эры.
Этот индусский Христос—Кришна, по браминским традициям, был зачат чудесным образом девой Деванаги (что переводят: созданная для бога), при чем перед ее глазами вдруг явился во время молитвы сам бог Вишну-Вседержитель в ослепительном сиянии при звуках волшебной музыки, и она стала беременна.
Родившийся младенец назван был Кришна, что санскриты и переводят по его греческому корню Христос, т. е. посвященный, и рассказывают чудеса о его детстве.
Шестнадцати лет он, будто бы, отправился проповедывать по Индостану свое новое учение, и слушавшие его говорили:
—Во истину это искупитель, обещанный нашим отцам. К нему собралось много учеников, между которыми он особенно отличал юношу Ард-Юна (Ard-jouna), соответствующего Иоанну богослову, принадлежавшего будто бы к одной из самых аристократических фамилий Мадуры. Однако, новое учение Кришны возбудило против него мадурского царя, находившегося под влиянием сторонников прежнего учения. Его хотели схватить и умертвить, но посланный для этого с отрядом военачальник так поражен был божественностью его вида, что обратился сразу (как Павел) в одного из самых усердных сторонников Кришны.
Поучения Кришны были совершенно однородны с поучениями евангельского Христа. Он говорил о бессмертии души, о свободе воли, о воздаянии за добро и зло в будущей жизни и о вере в безграничную доброту вседержащего бога. Преподавались такие поучения Кришной тоже в притчах и в простых коротких поучениях в роде:
«Подобно тому, как земля поддерживает тех, кто ее попирает и кто раздирает плугом ее грудь, так и мы должны воздавать добром за зло»,—говорил он между прочим.
Единство обоих учений ясно для каждого беспристрастного исследователя. Оно проявляется и в чудесных деталях жизни Кришны, вплоть до его преображения перед своими учениками, после чего они и назвали его Иезеус, т. е. Иезус—Иисус, что значит по-еврейски Спасатель, а индусы неправильно толкуют это слово, как «Исшедший из чистой божественной сущности». А вот и смерть индусского Спасателя по браминским преданиям.
Когда настало время для него оставить земной мир, он отправился к священной реке Гангу, окунулся в нее три раза, и коленопреклоненный стал молиться, ожидая своей смерти.
На берег пришел обличенный им когда-то Андага с многочисленными воинами, но он не предал Кришну, как евангельский ученик, а пронзил издали стрелою, как воин евангельского Христа у его столба. Воины повесили тело Кришны на ветвях дерева, чтобы его склевали вороны, и ушли. Его ученики пришли снять его, но Кришна исчез с дерева, которое оказалось покрытым огромными красными цветами и распространяло вокруг себя упоительное благоухание.
А Андага, поразивший его стрелой, был осужден богом-Отцом на вечные скитания по земле и блуждает теперь на берегах Ганга, не принимая другой пищи, кроме мертвых трупов, кости которых он гложет вместе с шакалами и другими нечистыми животными.
Мы видим, что и в индусских преданиях выпущено место о попытке столбовать Василия Великого, как выпущено оно в в легенде о вознесении на небо пророка Илии и в жизнеописании самого Василия Великого, первоисточника всех этих легенд.
Легенда о Кришне впервые появляется в той части индусской Магабараты, которую относят ко второму веку «до Рождества Христова», а с нашей точки зрения мы должны отнести эти сказания по меньшей мере на два века позднее смерти Василия Великого, т. е. к VI веку нашей эры, как и следует по эволюционной совокупности относящихся сюда фактов.
Это явно тот же век, та же самая идеология и те же приемы литературного творчества, и мне остается только повторить слова, которые, я, может быть, слишком поспешно, сказал еще в первой книге моей работы.3
«Не индусская Тримурти (т. е. Троица) вместе с младенцем Кришной на руках приехала на белом слоне на берега Средиземного моря из девственных лесов Индии, а совершенно наоборот: она перекочевала в Индию из культурных городов Эллино-Сирийско-Египетской теократической империи Феодосия II на верблюдах вместе с торговыми караванами не ранее VIII века нашей эры.
Это и была в Индии первая достоверная «благая весть» о приходившем на землю Кришне в виде основателя христианского богослужения, имя которого в переводе значит Великий Царь (Василий Великий), и все предыдущие воплощения Кришны «сделались известными» в Индии уже позднее (по мере развития легенды)».
И эта же Тримурти на верблюдах,—прибавлю я теперь,—привезла туда из Европы и священный «искусственный язык» проповедников бога-Слова (браминов, по-индусски):
— «Вначале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было бог!»—говорили они языческим индусам словами евангелия Иоанна.
И это учение о Логосе осталось в Индии до сих пор под названием брамаизма.
3 «Христос». Первая книга, ч. III, гл. V, конец.